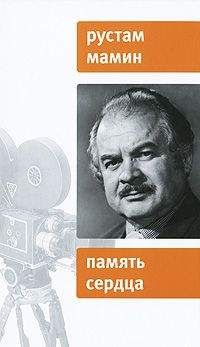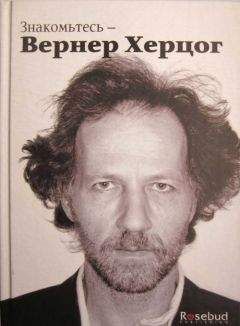Далее. Мне хотелось, чтобы подход ветеранов к воде снимался с реки, им навстречу, но оператор стал возражать: он-де нездоров, а вода холодная. Я хотел было сам с «Конвасом» лезть в реку, но кто тогда будет руководить организацией кадра и всего эпизода здесь, на берегу? Не скажешь же героям войны: «А теперь повторим. Еще один дубль!» Не поймут! Они-то с одного дубля форсировали! Да и эмоциональное напряжение будет потеряно. Что делать?.. Гляжу, у берега катер пришвартован. На палубе несколько человек, смотрят на нас. Я к ним. Быстро объяснил ситуацию…
Катер вырулил на указанное место. Снимать хорошо, но высоковато. Спустили лодку, подгребли… Встали метрах в пяти от берега – идеально!
В результате оператор как можно ниже, почти от воды, выставил кадр. Объектив «35», чтобы широким планом «схватить» всю группу ветеранов. Изготовился… Эх, где то благословенное времечко, когда на ЦСДФ мы снимали нужные эпизоды сразу несколькими камерами: общий, крупный, деталь?! Командую:
– Мотор!
– Есть мотор, – отзывается звукооператор.
И вдруг над рекой грянул широко и неожиданно хор Краснознаменного ансамбля песни и пляски имени Александрова:
Кто погиб за Днепр,
Будет жить в веках,
Коль сражался он,
Как герой…
– Камера!
Оператор начал снимать. Наши герои медленно, будто неся на плечах тяжкий груз лет и воспоминаний, пошли к воде. Полетели в воду охапки сирени, букеты цветов…
Будет жить в веках,
Коль сражался он,
Как герой…
Смотрю, а по щекам генерала армии Иванова слезы текут! Боже!.. Снял или не снял?! Хоть бы трасфокатором догадался наехать: как подходили, переговаривались; фуражки некоторые сняли, кто-то лицо омыл днепровской водой… Оператор подскакивает суетливо-радостный:
– Все снял! Может, повторить на всякий случай?
Я возмутился:
– Ты что?! Это… того?.. Охренел? Не надо! Дубль уже не получится. Ты видишь, каково им. Надо подойти, успокоить. Поблагодарить. Подбодрить там или еще что. Пошли…
Семен Павлович присутствовал на сдаче и очень хорошо принял картину. На эпизоде возложения сирени я снова увидел, как он прослезился. Для меня это был праздник «со слезами на глазах»! Важный заслуженный генерал был тронут до глубины души, с признательностью жал мне руку:
– Если будет когда необходимость, обращайтесь. Я всегда поддержу. Я понял, что вы работаете серьезно…
Нам действительно пришлось еще раз встретиться с Ивановым – большим военачальником, генералом армии… и простым русским человеком. Но об этом позже…
Впервые услышал я слово «русский» в своем далеком детстве – лет четырех отроду, в поселке Видное. Хозяином дома, где мы жили, был Григорий Иванович Верещагин, человек степенный, лет под шестьдесят. Ходил он в сапогах, необычных, мягких. В непогоду надевал на них калоши, или вдевал сапоги в калоши. Он носил усики и коротко стриженную бородку. Впоследствии, увидев портрет царя Николая Второго, я понял: Верещагин похож на царя, внешне, конечно. Может, он подражал его облику…
Лицо у него было строгое, казалось, даже сердитое. А глаза добрые. Такие глаза бывают у людей бездетных. Но у Григория Ивановича дети были, правда, все девочки (я узнал об этом из разговора взрослых). Хозяин дома вызывал к себе какое-то особое почтение. Когда он приезжал, стихали все обыденные шумы. Ходили тихо, осторожничая. Говорили не громко, но как-то основательно, с выразительной артикуляцией, указывая глазами на хозяйскую половину: «Григорий Иванович приехал!»
Общаясь, разговаривая с кем-нибудь на общей кухне или попросту заходя к отцу, он подолгу смотрел на меня. Я частенько ловил на себе его задумчивый изучающий взгляд. Меня это смущало, я робел и лез под стол, придумывая там себе какое-нибудь занятие или игру. И в то же время, возясь на полу, из своего укрытия исподтишка искал его взгляд. В глазах «Григорьваныча» было что-то притягивающее, волнующее, вроде какая-то пустота, которую надо было заполнить. Мне очень хотелось с ним пообщаться – не играть, конечно! Наверное, я бы с удовольствием сидел у него на коленях, (только если б он сам позвал меня!) и слушал бы сказки, русские сказки, какие рассказывал мне отец. Кстати, отец знал очень много разных сказок, умел их рассказывать. И рассказывал каждый раз по-новому и только по-русски! Я с охотой слушал бы и Верещагина как какого-то загадочного волшебника, повествующего мне своим тихим завораживающим голосом про Ивана-царевича, Василису Премудрую, Бабу Ягу или Кащея Бессмертного. Почему-то облик добрых героев из сказок – царей «в некотором царстве, некотором государстве», стариков, которые «жили со старухой», отцов трех братьев, из которых «младший был Иван-дурак», ассоциировались у меня именно с Верещагиным. Среди всех окружающих в то время знакомых отца только у нашего хозяина был облик русского человека. Видимо, поэтому и облик царя казался мне дружеским, добрым.
Позже, уже при выходе из детства, это слово и понятие «русский» стало высвечиваться новыми гранями, оттенками, нюансами. Возможно, кое-что осмысливалось, добавлялось после посещений квартиры Салазкина в Москве. Для меня тогда была какая-то непонятная связь между двумя этими людьми – Верещагиным и Салазкиным. Что-то объединяло их. И еще в этом сообществе непременно присутствовал мой отец – из рода князей Алимбековых. Отношение Салазкина и Верещагина к отцу было более чем товарищеское, они относились к нам как к родным. Из разговора взрослых я знал, что они даже денег с нашей семьи не брали за проживание.
«Русский». Что же это такое?.. «Москва, Москва, люблю тебя как сын, как русский…» Значит ли это, что «русский» в какой-то степени понятие географическое? Что это – место, где ты родился, называемое привычно – Родина? Да, наверное! Именно поэтому во время Великой Отечественной, защищая Отчизну, шли в бой на смерть люди разных национальностей – как русские, как единое целое, как единый народ. И падали, орошая своей кровью родную землю, неважно, было ли это под Ржевом, Киевом, Москвой или Варшавой. И захоронены они по всей России, по всей Европе – русские, защищавшие свои идеалы, своих матерей, сестер, детей. Отдавшие жизнь за свои деревни, аулы, полустанки, кишлаки, горы, реки…
Видимо, слово «русский» не есть определение национальности или не только ее – это состояние души. Это березка у околицы, это первый снег, мои маргаритки, дядя Казимир с гармонью. Это песни «Коробочка», «Ухарь-купец». Это поместье Салазкина. Это общность судеб. Это общая история, культура, философия… И совсем не важно, что религии разные, разные обряды…
Время человеческой жизни – ничтожно. Торопливо прошагивая свой жизненный путь, мы постоянно терзаемся сомнениями, разочарованиями, отчаянием за несовершенство бытия, государственного устройства, за чиновничий произвол. Несправедливость, человеческое предательство, невозможность удовлетворить свои, даже, кажется, самые малые духовные и материальные потребности разъедают душу каждого. Но! Но…