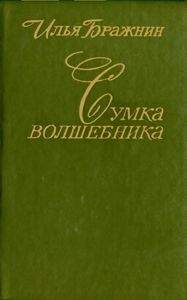Так обычно работает тот, кто накрепко привержен реализму. Но художник-импровизатор как будто бы должен поступать совсем не так?
Вот в чём суть моего чрезвычайного сопоставления которое хоть кого (в том числе и меня) может поставить в тупик.
Впрочем, тупик ли это, из которого нет выхода? Думается, нет. Рисунки Нади — это импровизации, они в какой-то мере фантастичны, сказочны, но в то же время они заданы конкретной действительностью, жизнью, книгой, фактом, рассказом хотя бы, но выраженным в конкретных образах, вещах, событиях. И Надя верна этим образам, вещам, событиям. Она даёт нам своё творческое воплощение, но не отрывает от жизни живой и от жизни, заданной первоначальным создателем этой жизни, этого образа — автором, сказкой, мифом. Рисунки Нади, несмотря на импровизационность и подчас фантастичность, не беспочвенны, не безличны, не безразличны к жизни. Они следуют жизни в такой же мере, в какой следуют творческому импульсу Нади. Она фантастичны и реалистичны одновременно. Они — сказка, ставшая былью, поэзия в графике.
Надя рисует мифических сирен. Их много. Она их любит. Но как она их любит? И каковы они у Нади?
Прежде всего, это не те свирепые сирены, морские дивы, которые в мифах завлекают своим пением моряков-путешественников в морские пучины, чтобы погубить их. Спастись от них можно, только залепив уши воском, чтобы не слышать их соблазнительно влекущего пения, как сделали это Одиссей со своими спутниками.
У Нади сирены зовутся ласково сиренками и никого они не губят. Напротив, они очень общительны, дружелюбны, приветливы и, не корча из себя злодеек, занимаются самыми обыденными делами: ходят на просмотры моделей в Дом мод, служат официантками, устраивают дома время от времени большую стирку и, сняв свои рыбьи хвостики и выстирав их, развешивают рядком, как трусики, на верёвочках для просушки.
Удивительно милы эти сиренки, и Надя дружит с ними издавна. У неё есть даже такой рисунок — «Дружба с сиренкой», где обыкновенная девочка, может быть сама Надя, улыбаясь, стоит в обнимку с сиренкой и мирно разговаривает с ней.
Очень домашни, милы и кентаврицы, а также кентавры и кентаврята. Кентаврицы столь же кокетливы как и сиренки. На всех четырёх копытцах у них высоконькие, остренькие, самые модные каблучки.
Отношения Нади и кентавриц, Нади и сиренок, на мой взгляд, таковы, какими должны быть отношения художника к своим созданиям: они совершенно естественны, человечны, задушевны. Через эти отношения очень глубоко и достоверно раскрывается сам художник, его добрый взгляд на окружающий его мир.
И ещё одно скрыто в этих Надиных образах: это добрая улыбка, обращённая в мир, и весёлый глазок художницы, её мягкий юмор — мягкий и одновременно смелый и тонкий.
В этом весёлом, задорном, озорном отношении к материалу есть что-то открыто-детское, в то же время мужественно-взрослое, бесстрашное. Художник не преклоняется, не раболепствует перед мифом, перед сказкой, не жречествует, а просто принимает этот мир как художническую достоверность и совершенно свободен и непринуждён в отношениях с ним. Этот высокий душевный настрой мужественного, ясноглазого и прямодушного художника был в полной мере свойствен Наде — да иначе и быть не может: ведь она крупный художник и строй её души — это строй души крупного художника.
Я слушал голос Нади, записанный на магнитофонную ленту одним из Надиных товарищей — студентом ГИКа. Перед записью Надя спросила:
— А что говорить?
— Говори, что хочешь.
— Ладно. Я расскажу, как получила двойку.
И рассказала. Рассказ милый, простодушный, открытый — всё напрямик, всё без утайки. В нем — вся Надя, весь её характер, весь душевный строй.
Я смотрел три коротеньких фильма о Наде. В них Надя тоже такая, как есть: без ретуши и прикрас... Бродит по Ленинграду... у Зимней канавки, на набережной Невы, в Летнем саду славная, милая девушка, иной раз даже девочка. Смотрит на чудесный город, который так любила, в котором часто бывала.
В последнем фильме о Наде, очень коротеньком и кончающемся её прощальной улыбкой и горестным титром: «Фильм не удалось закончить, так как Надя Рушева умерла в марте шестьдесят девятого года...», запечатлён один жест Надин...
Медлительно проходя по комнатам пушкинской квартиры и вглядываясь в окружающие её реликвии, Надя летучим, каким-то удивительно интимным жестом подносит руку к лицу, к щеке. Этот нечаянный жест пленителен и очень скупо, как бы потайно, даёт знать зрителю — с каким внутренним волнением, с какой трепетной, затаённой душевной тревогой и радостью Надя глядела в Пушкина, в его жизнь, в его стихи...
Я спросил у Надиного отца: знала ли Наденька о своём аневризме, о том, что болезнь её смертельна?
Николай Константинович ответил коротко:
— Нет. Никто не знал... Утром, дома, собираясь в школу, потеряла сознание...
Не могу сказать — к лучшему ли то, что Наденька не подозревала о ежеминутно подстерегавшей её смерти. Может быть, если бы знала, это лишило бы её рисунки той прекрасной и поистине великой гармоничности, какая в них живёт, наложила бы на них печать трагического... Не знаю, не знаю...
Но знаю одно — проглядывая многажды Надины рисунки, я ещё раз и окончательно убедился, что добрые волшебники существуют на свете, живут среди нас. Они живут и формируют наши души, наши личности и, даже умерев, продолжают в нас свою добрую работу.
От Михайловского до Муранова
Лето тысяча девятьсот семьдесят пятого года оказалось для меня чрезвычайно счастливым. В это лето мне удалось побывать в гостях и у Александра Пушкина, и у Фёдора Тютчева, о котором я пишу сейчас книгу, сиречь побывать и в Пушкинском заповеднике в Михайловском и в музее Тютчева в Муранове. Дни и часы, проведённые в этих заповедных местах, были неповторимо прекрасны.
В Михайловском Пушкин бывал не раз и не два — и бывал и живал. Впервые попал Пушкин в Михайловское в тысяча восемьсот семнадцатом году, сразу после окончания лицея, будучи ещё восемнадцатилетним юношей. В последний раз приезжал сюда за год до смерти. В Михайловском же Пушкин отбывал двухлетнюю ссылку двадцать пятого — двадцать шестого годов.
Несмотря на горечь вынужденной отъединённости от всех, кто был мил его сердцу и кому он был дружески привержен, несмотря на одиночество в захолустном углу, Пушкин не стал ни ипохондриком, ни бездельным неврастеником. В эти горькие два года он обрёл в себе скрытый дотоле источник сил, чтобы найти душевное равновесие и сосредоточиться на творческой работе.