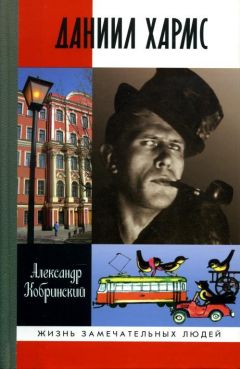Эссе «О голом человеке» в форме письма Хармсу написал сам Друскин. Их дружеская философская и квазифилософская переписка возникает в середине 1930-х годов; до нас дошли три ответных письма Хармса, написанных годом позже — в августе — сентябре 1937 года. В одном из них, в частности, Хармс пишет об упоминаемых здесь со слов Друскина «вестниках» — «существах из соседнего мира», которых придумал Леонид Липавский, создав точную «кальку» с греческого слова ἄγγελος, которое действительно в своем первоначальном значении отсылало именно к «вестникам», «посланцам». В промежуточном состоянии между явью и сном Хармс ощущает себя этим межмирным существом-посредником.
А на следующий день после дня рождения Т. Мейер-Липавской, 21 августа 1936 года, Хармс пишет рассказ «Судьба жены профессора» (первоначальное название «Приключение профессора»). 31 августа написан рассказ «Кассирша» (первоначально — «Маша и Кооператив»), а 1 сентября появляется рассказ «Отец и Дочь».
Август — начало сентября 1936 года стал не просто чрезвычайно плодотворным творческим периодом в жизни Хармса, этот период можно с уверенностью определить как рождение нового типа хармсовской прозы, и три упомянутых рассказа являются самыми яркими ее примерами. В центре этих текстов — проблема смерти, ее обратимости, а также похорон.
«Судьба жены профессора» начинается обычным для Хармса приемом: рассказом о событии, не имеющем отношения к фабуле:
«Однажды один профессор съел чего-то, да не то, и его начало рвать.
Пришла его жена и говорит:
— Ты чего?
А профессор говорит:
— Ничего.
Жена обратно ушла.
Профессор лег на оттоманку, полежал, отдохнул и на службу пошел».
После этой псевдозавязки, которая никак более не отразится в фабуле рассказа, начинается завязка подлинная: на службе профессор узнает, что ему «жалование скостили: вместо 650 руб. всего только 500 оставили». Попытки выяснить, в чем дело, у директора и бухгалтера ни к чему не приводят — и профессор отправляется «за правдой» в Москву.
Следует заметить, что в цифрах Хармс практически точен. В 1936 году в СССР средняя зарплата рабочего составляла 250 рублей, профессора — 400–500, Сталин получал 1200 рублей в месяц. Так что подобное начало заставляет потенциального читателя воспринимать текст не на алогически-авангардном фоне, но ориентирует на некий мимесис («подражание» реальности). Этот «неореализм», при котором абсурдирующие элементы текста разворачиваются на фоне почти не искаженного бытия, глубоко в него внедряясь, и станет главным признаком хармсовской прозы второй половины 1930-х — начала 1940-х годов.
Через несколько дней жена уехавшего в Москву профессора получает по почте посылку. В посылке — баночка с пеплом и записка: «Вот все, что осталось от Вашего супруга». Оказывается, в дороге профессор заболел гриппом и умер в Москве в больнице. Его тело сожгли в крематории, а пепел по почте прислали жене.
В этом кратком фрагменте оказываются «свернуты» целые сюжеты, отсылающие к реальным событиям, наподобие того, как это было в стихотворениях Хармса «Нева течет вдоль Академии» и «I Разрушение». Однако, судя по всему, на этот раз Хармс использовал события, уже мифологизированные в современной ему русской литературе, прежде всего — в романах Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» (опубликован в 1928 году) и «Золотой теленок» (опубликован в 1931 году). Журнал «30 дней», в котором были опубликованы оба романа, был не просто читаем Хармсом и его друзьями; в 1934 году именно в нем появились единственные «взрослые» стихи Н. Олейникова, напечатанные при его жизни.
Оба «свернутых» сюжета имеют прямое отношение к похоронам. Быстрая смерть профессора от гриппа отсылает к знаменитой пандемии «испанки», свирепствовавшей по всему миру в 1918–1920 годах. Тогда, по нынешним грубым подсчетам, скончалось более двадцати миллионов человек, что превышало число погибших как от средневековой эпидемии чумы в XIV веке («черная смерть»), так и в результате сражений Первой мировой войны. Болезнь протекала необычно скоротечно, переходя в воспаление легких и вызывая у заболевших кровохарканье, что и породило название «пурпурная смерть». Быстрая гибель профессора от гриппа вызывает ассоциацию именно с «испанкой». Однако вокзал как место действия (в Москве, на вокзале, профессор почувствовал, что не может выйти на платформу, и его оттуда везут в больницу) в сочетании с «испанкой» вызывают в памяти сцену у привокзального сквера в «Двенадцати стульях», где Воробьянинов и Бендер встречают приехавшего в Москву за заработком гробовых дел мастер Безенчука:
«— А сюда тебя зачем принесло?
— Товар привез.
— Какой же товар?
— Свой товар. Проводник знакомый помог провезти задаром в почтовом вагоне. По знакомству.
Ипполит Матвеевич только сейчас заметил, что поодаль от Безенчука на земле стоял штабель гробов. Один из них Ипполит Матвеевич быстро опознал. Это был большой дубовый и пыльный гроб с безенчуковской витрины.
— Восемь штук, — сказал Безенчук самодовольно, — один к одному. Как огурчики.
— А кому тут твой товар нужен? Тут своих мастеров довольно.
— А гриб?
— Какой гриб?
— Эпидемия. Мне Прусис сказал, что в Москве гриб свирепствует, что хоронить людей не в чем. Весь материал перевели. Вот я и решил дела поправить.
Остап, прослушавший весь этот разговор с любопытством, вмешался:
— Слушай, ты, папаша. Это в Париже грипп свирепствует.
— В Париже?
— Ну да. Поезжай в Париж. Там подмолотишь! Правда, будут некоторые затруднения с визой, но ты, папаша, не грусти. Если Бриан тебя полюбит, ты заживешь недурно — устроишься лейб-гробовщиком при парижском муниципалитете. А здесь и своих гробовщиков хватит.
Безенчук дико огляделся. Действительно. На площади, несмотря на уверения Прусиса, трупы не валялись, люди бодро держались на ногах, и некоторые из них даже смеялись».
Описанная «бывшим пролетарием умственного труда, а ныне палаточником» Прусисом ситуация, между тем, отнюдь не была полностью выдуманной. В США и Европе смертность от «испанки» была очень высокой, иногда целые населенные пункты оставались без медицинской помощи из-за гибели от болезни врачей, а умерших хоронили в братских могилах или же вовсе неделями оставляли без погребения, что вызывало появление новых инфекций. Юмористический эффект в ситуации, описанной Ильфом и Петровым, возникает за счет пространственно-временного переноса: «испанка» в Москве в 1918–1919 годах свирепствовала гораздо менее, чем в Европе и Америке, будучи быстро вытесненной сыпным тифом. Кроме того, Прусис «ошибся» почти на десять лет, так как действие романа происходит примерно в те же 1927–1928 годы, когда он и писался.