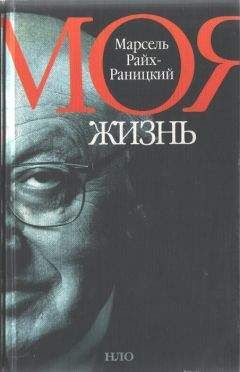Тот, кто хотя бы в общих чертах знает историю литературы, не будет предаваться такого рода иллюзиям. Предотвратили ли трагедии и истории Шекспира хотя бы одно убийство? Смог ли «Натан» Лессинга по крайней мере ограничить антисемитизм, постоянно возраставший в XVIII веке? Сделала ли «Ифигения» Гёте людей более гуманными, стал ли по меньшей мере хоть один человек благородным, добрым и готовым помочь, прочитав его стихотворения? Сумел ли «Ревизор» Гоголя умерить взяточничество в царской России? Удалось ли Стриндбергу улучшить супружескую жизнь буржуа?
Во множестве стран миллионы зрителей смотрели пьесы Бертольта Брехта. Но Макс Фриш сомневался, что в результате этого их политические взгляды изменились или хотя бы подверглись проверке. Он сомневался даже в том, что Брехт вообще верил в воспитательное воздействие своего театра. Во время репетиций у него, Фриша, сложилось впечатление, что даже доказательство неспособности театра содействовать изменению общества не могло бы сказаться на потребности Брехта в театре.
Нет, я никогда всерьез не думал о сколько-нибудь серьезной воспитательной функции литературы. Иное дело — необходимость активной позиции. Это значит: хотя писатели и не могут ничего изменить, они должны стремиться к изменению ради качества своих произведений. Когда я писал уже в Федеративной республике, в конце 50-х и еще в 60-е годы, этот постулат более или менее четко проявлялся в моих статьях, то здесь, то там возникало понятие «критика общества».
Но в 68-м и в последующие годы в литературной жизни Федеративной Республики стала распространяться воинственная и мрачная враждебность к искусству, и из моих статей исчезло вместе с превращенным в модное слово понятием «утопия» требование той активной позиции, которая должна была служить фундаментом для создания новых романов или пьес. Когда Томас Манн писал «Будденброков», Пруст — «В поисках утраченного времени», а Кафка — «Процесс», они ни в малой мере не думали, что с помощью своей прозы улучшат общество, и тем не менее создали непревзойденные в нашем столетии произведения. Я мало что ожидал от литературы, направленной на преобразование общества, я не мог представить себе такую литературу. Разве что те, кто ее создавали, были готовы отказаться от художественного качества и применять литературную форму только как упаковку для желаемых политических или идеологических тезисов и образов, но такую возможность я, конечно, не принимал во внимание.
Как и каждый критик, я хотел воспитывать, но не писателей — не стоит воспитывать писателя, поддающегося воспитанию. Напротив, у меня перед глазами была публика, читатели. Скажу совсем просто: я хотел объяснить им, почему книги, которые я считаю хорошими, и являются именно такими, я хотел побудить их читать эти книги. Не могу жаловаться: мои критические статьи, как правило, оказывали желаемое влияние на публику. Тем не менее это влияние представлялось мне недостаточным, думалось, что надо достичь большего, не примиряясь с тем, что важную, хотя и, может быть, трудную, книгу приняло к сведению лишь меньшинство.
Летом 1987 года меня посетили два весьма знающих и наделенных отличными манерами господина со Второго немецкого телевидения — Дитер Шварценау, все еще работающий там, и Иоханнес Вильмс, уже давно возглавляющий литературный отдел «Зюддойче Цайтунг». Господа пили чай и шнапс и пребывали в хорошем настроении. Прошло немало времени до тех пор, пока они, возможно приободренные алкоголем, не высказались наконец начистоту. Они спросили, не соглашусь ли я делать для ЦДФ регулярную литературную передачу. Я ответил решительным «нет». Но собеседники пропустили мой ответ мимо ушей — конечно же умышленно. Напротив, они хотели узнать, как я представляю себе эту передачу. Я подумал: буду выставлять разные условия до тех пор, пока господа в отчаянии не сдадутся.
Каждая передача, сказал я, просто провоцируя, должна продолжаться не менее шестидесяти минут, а лучше 75. Кроме меня должны участвовать еще три человека, ни в коем случае не более. Я должен выполнять две функции, то есть быть ведущим беседы и в то же время одним из участников дискуссии. Оба господина не только не вышли из равновесия, но кивнули, соглашаясь.
Если я хотел закончить ненужный разговор, то теперь следовало выдвинуть особо тяжелое орудие. В этой передаче, сказал я, не должно быть заставок в виде иллюстраций или кинокадров, никаких песен или сцен из романов, не должно быть писателей, которые читают отрывки из своих произведений или, прогуливаясь по парку, благожелательным тоном интерпретируют их. На экране следует видеть исключительно тех четырех человек, которые будут высказываться и, как мы ожидаем, спорить о книгах. Только тот, кто знает телевидение, понимает, как страдали оба господина. Ведь высший, священный закон телевидения — постоянное доминирование видеоряда, а я осмелился взбунтоваться против этого закона. Было ясно, что именно это любезные господа не проглотят. Я с напряжением ожидал их реакции: побледнеют ли они или сразу лишатся сил? Но случилось нечто другое. Господа Шварценау и Вильмс глубоко вдохнули, выпили еще шнапса и тихо сказали: «Согласны».
В начале телевизионной эры в газетах можно было порой прочитать о «вечной междоусобице» между экраном и книгой, писали, что телевидение — «заклятый враг книги». Я много раз протестовал против этого утверждения, в том числе на страницах «Вельт» в 1961 году, не желая и слушать о такой междоусобице. Напротив, я требовал союза телевидения и книги, считая, что он пойдет на пользу обеим сторонам. Во время разговора с обоими господами с ЦДФ я втайне спрашивал себя, не скрывается ли в этом неожиданном предложении шанс, пусть даже вопреки всякой вероятности, сделать что-то для литературы, в особенности для ее распространения. Следовало отважиться на такую попытку — терять было нечего, а приобрести — кто знает? — можно было немало.
25 марта 1988 года впервые вышла в эфир новая передача — «Литературный квартет». С самого начала в ней участвовали Зигрид Лёффлер и Хельмут Каразек. Критика была, мягко говоря, разочарована и немилостива. Один из моих коллег оценил начинание кратко: все уже умерло, этот квартет мертворожденный.
Чего я хотел достичь с помощью «Литературного квартета»? В конечном счете того же, что и с помощью печатных критических работ. «Квартет» должен был осуществлять посредничество между писателями и читателями, искусством и обществом, литературой и жизнью. Но даже если «Квартет» и хотел достичь того же, что критика в газетах и журналах, то все же другими средствами. Он обращается, во всяком случае отчасти, к другой публике. Я всегда считал вразумительность великой целью критики и полагал, что в телевизионной передаче тем более необходимо говорить особенно ясно, формулировать особенно наглядно и понятно, так как от произнесенного слова может отвлекать многое — прическа Зигрид Лёффлер, пиджак Хельмута Каразека или мой галстук. Я добился также, что во время этих разговоров о книгах нельзя было ничего читать и пользоваться шпаргалками.