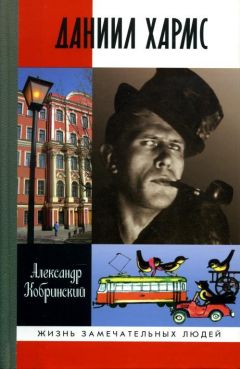Запись от 9 января, гласящая: «Сегодня я ничего не писал. Это неважно», — могла бы вызвать недоумение, ибо носит явно дневниковый характер и совершенно диссонирует с остальными произведениями. Но дело в том, что Хармс явно поставил себе задачу писать каждый день — и таким образом контролировал сам себя. Чуть позже, 11 апреля, мы находим в «Голубой тетради» запись, раскрывающую этот механизм контроля:
«25. Довольно праздности и безделья! Каждый день раскрывай эту тетрадку и вписывай сюда не менее полстраницы. Если нечего записать, то запиши хотя бы по совету Гоголя, что сегодня ничего не пишется. Пиши всегда с интересом и смотри на писание как на праздник».
Все подобные записи, конечно, свидетельствуют об одном — о творческом кризисе, который Хармс испытывал в это время. Стихи в прежней манере писать было уже невозможно, новая, «неоклассическая» манера — «упражнения в классическом размере» — воспринималась не столько как творчество, сколько как стихотворные упражнения. Вовсю создавались проза и драматические миниатюры, но Хармс не чувствовал еще этот вид творчества для себя органичным. В этих условиях даже заставить себя сесть за писание было для него трудным делом — отсюда и упреки самому себе, и попытки убедить самого себя в необходимости работы даже при отсутствии вдохновения.
Тем не менее образцы новой прозы появлялись все чаще. 13 января 1937 года Хармс пишет весьма значимый для себя рассказ про человека по имени Иван Яковлевич, который начинался так:
«Один человек, не желая более питаться сушёным горошком, отправился в большой гастрономический магазин, чтобы высмотреть себе чего-нибудь иное, что-нибудь рыбное, колбасное или даже молочное.
В колбасном отделе было много интересного, самое интересное была конечно ветчина. Но ветчина стоила 18 рублей, а это было слишком дорого. По цене доступна была колбаса, красного цвета, с тёмно-серыми точками. Но колбаса эта пахла почему-то сыром, и даже сам приказчик сказал, что покупать её он не советует.
В рыбном отделе ничего не было, потому что рыбный отдел переехал временно туда, где раньше был винный, а винный отдел переехал в кондитерский, а кондитерский в молочный, а в молочном отделе стоял приказчик с таким огромным носом, что покупатели толпились под аркой и к прилавку ближе подойти боялись».
Уже в начале рассказа на первый план выходит важнейший прием хармсовской прозы 1930-х годов — релятивность сюжета. Вводимый в текст элемент подвергается немедленной дискредитации и объявляется фиктивным. Как и в рассказе из цикла «Случаи» «Голубая тетрадь № 10», слово и его значение существуют отдельно друг от друга, иногда значение может возникать совершенно произвольно. У «рыжего человека» из «Случаев» нет волос, а в процитированном тексте колбаса пахнет сыром, перемещение отделов привело к лишению их названий всякого смысла (а прилавки этих отделов оказываются лишенными товара). В 1938 году Хармс напишет рассказ «Четвероногая Ворона», логически развивающий этот прием:
«Жила-была четвероногая ворона. Собственно говоря, у нее было пять ног, но об этом говорить не стоит.
Вот однажды купила себе четвероногая ворона кофе и думает: „Ну вот, купила я себе кофе, а что с ним делать?“
А тут, как на беду, пробегала мимо лиса. Увидала она ворону и кричит ей: „Эй, — кричит, — ты, ворона!“
А ворона лисе кричит:
„Сама ты ворона!“
А лиса вороне кричит:
„А ты, ворона, свинья!“
Тут ворона от обиды рассыпала кофе. А лиса прочь побежала. А ворона слезла на землю и пошла на своих четырех, или точнее, пяти ногах в свой паршивый дом».
Помимо абсурдирующего переложения крыловской басни «Ворона и Лисица» бросается в глаза последовательная дискредитация вводимых в текст признаков. Слово «ворона» предполагает отнесенность к птицам, а следовательно — наличие двух ног, но в рассказе этот признак оказывается фиктивным, так как ворона объявляется четвероногой. Однако, как выясняется, у «четвероногой вороны» — пять ног, и признак «четвероногая» тут же лишается своего значения. Тем не менее объявляется, что «об этом говорить не стоит» (почти прямая цитата финала рассказа о «рыжем человеке», в котором повествовательные проблемы решаются путем прекращения самого повествования: «Уж лучше мы о нем не будем больше говорить»), и в дальнейшем лишенный значения признак употребляется в тексте совершенно свободно. Осознанность и продуманность приема подтверждает фраза на обратной стороне листа с рассказом «Четвероногая Ворона», которая должна была стать началом так и не написанного текста: «Жил-был четвероногий человек, у которого было три ноги». Как видим, абсурдирующий механизм здесь работает точно так же.
Рассказ об Иване Яковлевиче, безуспешно пытавшемся что-то купить в гастрономе, замечателен еще и тем, что гоголевское влияние проявляется в нем открыто на всех уровнях — от характера авторского повествования до сюжета. Описание внешности персонажа настолько воспроизводит принципы описания внешности Чичикова, что заставляет говорить уже не просто о влиянии, но о сознательной стилизации, использовании готового приема как некоего «целого», встраиваемого в неизменном виде в новую конструкцию (что, собственно, и составляло всегда один из важнейших способов построения авангардного текста):
«Человек, о котором я начал эту повесть, не отличался никакими особенными качествами, достойными отдельного описания. Он был в меру худ, в меру беден и в меру ленив. Я даже не могу вспомнить, как он был одет. Я только помню, что на нем было что-то коричневое, может быть, брюки, может быть пиджак, а может быть только галстук. Звали его кажется Иван Яковлевич».
А вот описание Чичикова в «Мертвых душах»:
«В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод».
Хармс пытается найти свою новую манеру письма, которую можно было бы определить как «неореалистическую». Она характеризуется неторопливыми и неспешными описаниями в духе классической русской прозы XIX века (прежде всего можно назвать того же Гоголя) со значительным акцентом на процессе рассказывания и активной позицией повествователя, постоянно обнажающего сам прием рассказывания. При этом абсурдирующие элементы теперь переносятся в сильные позиции текста: легко увидеть, например, что в рассказе об Иване Яковлевиче нет ничего абсурдного, алогичного, но зато сам рассказ обрывается как бы на середине:
«Иван Яковлевич свернул папиросу и закурил. В коридоре раздалось три звонка.