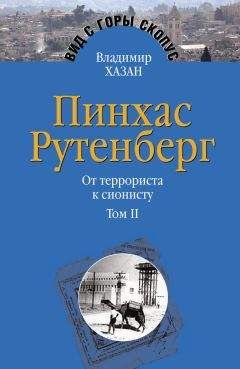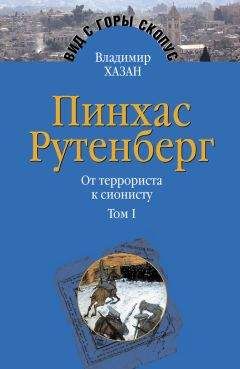Со временем все утрясется. Сегодняшние руководители станут опытнее, вырастут.
Со временем…
Ну а сейчас? Время не ждет!
Все в конгресс-движении идет по-прежнему. Как бывало и до сих пор, массы разочаруются. Кстати, если после войны, когда главный мотив, главная пружина теперешнего психологического состояния народа исчезнет, мы можем оказаться перед большой национальной катастрофой.
Конгрессисты, даже самые видные, теряют перспективу всего движения, его чудовищно большой и важной задачи – национальную организованность народа. Вместо этого размениваются зачастую на мелочи.
Речами, даже самых «красивых» ораторов, нельзя ничего сделать.
Отдельные личности могут быть более или менее полезными, но не всесильными…
* * *
Естественный вопрос.
А что же я сам, который тоже имеет отношение к конгресс-движению, почему я тоже стал критиком?
В течение многих месяцев лично я, по личным мотивам, полностью в своей деятельности парализован. Все, что можно, я уже сделал. А может, не все? Не мне судить.
Мои статьи говорят о моей слабости. Я их пишу не ради критики. Быть может, найдутся другие, которые смогут сделать то, что сейчас так необходимо.
* * *
На рабочих, на нашем революционном авангарде, лежит основная часть работы, основная часть ответственности.
Только строгая систематическая организованность и работа может нас сейчас спасти.
Еще не поздно.
Два года назад[34]
В предсмертных конвульсиях дрожала тогда маленькая, безвинная Бельгия. Северная Франция была занята врагом. А на прекрасный, великий, благородный город с мировым именем, мировой бриллиант, мировую гордость, на Париж, была наброшена смертельная удавка… Пьяные от шампанского и крови немцы тянули к столице свои железные руки с садистской страстью, чтобы ее изнасиловать и загадить.
Французское правительство вынуждено было переселиться в старое жирардистское Бордо. Всю Францию затопило море трагической печали. Даже на границе, даже в солнечной Ривьере, далекой от театра войны, это можно было видеть и чувствовать. Видели и чувствовали то, что по газетам, по рассказам невозможно было представить.
На станциях, в вагонах прижимают женщины детей к своей груди, и, собираясь группками, тихо, приглушенными голосами рассказывают они друг другу о своих уехавших на фронт мужьях, о сражениях, в которых мужья участвовали, о том, как давно нет от них вестей. О страшном варварстве победоносного врага, о своих домашних, мелких, женских страданиях…
Мужчины честно занимаются своей новой непривычной работой. И говорят между собой тоже тихо, шепотом…
Ни смеха, ни мелодии, издаваемой свистом или пением, которые когда-то украшали этот прекрасный уголок мира…
Везде солдаты: здоровые и выздоровевшие едут на север – на фронт, больные и раненые на юг – к солнечной Ривьере. Все с одной и той же мыслью, все с одним и тем же чувством – бороться за честь своих жен, за свободу для своих детей, за свою страну, за свою культуру, за Францию – до последнего вздоха, до последней капли крови.
На каждой станции, днем и ночью, рано или поздно, везде и всегда, встречают женщины. Пожилые, молодые, еще дети, все одетые в белое, все с символическим медицинским красным крестом на рукаве, нагруженные едой и питьем.
Они бегут через вагоны и трогательными голосами глубоко любящих матерей и сестер восклицают:
– Солдат! Раненый! Вы хотите есть? Вы хотите пить?
Они ободряют словами, подкрепляют взглядом…
До сих пор я не могу без слез это вспоминать. Почему? До сих пор я этого понять не могу.
И солдаты становятся бодрей, веселей, едут дальше, опять рассказывают о страшных боях, в которых они приняли участие,
о диком, немилосердном враге, которого они победили, о своей мести врагу… О своих ранах, о своих полках и командирах, куда они возвращаются. О новых боях, которые им еще предстоят…
Были ли они все так сильны и красивы?
Конечно, нет.
Но человеческая грязь должна была спрятаться в свои норы и перед открытым, освещенным миром маскироваться в чужие, но светлые и красивые одежды…
* * *
Тяжело тогда было ехать. Никаких различий между ними. Ни пассажирских классов, ни спальных мест. Почти на каждой станции подходят новые солдаты. И если для них не было мест, то обычные пассажиры, когда и где бы это не было, выходили из вагонов, ждали следующего… Шестнадцать часов вместо шести ехали из Генуи в Бордо. Казалось бы, невозможно! Я видел и слышал такие вещи, которых никогда в своей жизни не забуду, они очистили мою душу, сделали ее более ясной и светлой.
Учащенно билось мое сердце, голова склонялась все ниже, и я себя спрашивал: удостоюсь ли я чести, доживу ли я, чтобы в жестокой физической борьбе жертвовать жизнью за честь своих родных еврейских сестер, за свободу моих собственных еврейских детей, за мой несчастный еврейский народ, за мою собственную еврейскую страну?..
* * *
В Бордо я увидел первые два длинных поезда с пленными и ранеными немцами.
Это было после сражения на Марне. Когда легендарное французское мужество нанесло первый страшный удар по легендарной немецкой военной мощи, стало как кость в горле, которой подавилась Германия.
Два длинных только что прибывших состава с товарными вагонами. Двери открыты, на полу постелена свежескошенная пшеница, на ней рядами лежат забинтованные люди, с лицами серо-земельного цвета и изнуренными глазами. На белых бинтах грязно-коричневые пятна запекшейся крови. Умирающие со сжатыми зубами, закушенными губами не издают ни стона, ни вздоха, чтобы не услышал враг. Те, кто страдает меньше, ползут с нечеловеческими усилиями к тем, кто страдает больше, чтобы их накрыть, дать каплю воды, смыть пот.
Приходят француженки-медсестры в белоснежных халатах, с трагически серьезными лицами, с глубоким женским сочувствием в сердцах. Они перевязывают раны, облегчают страдания врагов…
То же самое делают немецкие медсестры там, далеко, с той стороны огненной стены, для мужей и детей французских женщин…
Приходят французские санитары, чтобы вынести мертвых из вагонов. Боль от ран становится невыносимой…
Французские солдаты сбегаются, чтобы посмотреть, увидеть.
Стоят молча, серьезно. Каждый выражает чувства всех.
Страшно! Трагично! А что делать? А каково нашим там? Им не лучше!..
Пленным дают хлеб и воду. В каждый вагон ставят солдата с ружьем. Двери наполовину закрыты.
Раздается гудок. Поезда медленно трогаются один за другим. Дальше – к южным госпиталям, где раны заживут и придут новые тяжелые страдания, в чужой стране, далеко от дома…
И здесь и там, во Франции и Германии, в России и Австрии…