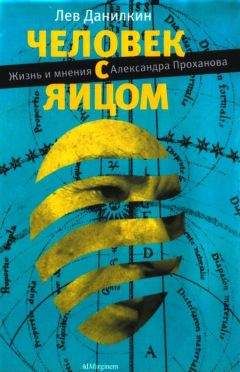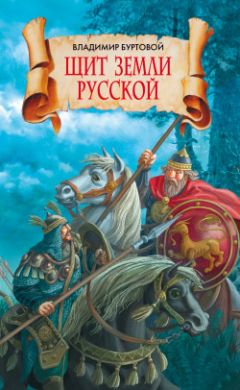— А чего вы там делали целыми днями, в этом осажденном Белом доме?
— Возникла гравитация, там был центр конфликта, собралась масса людей, в том числе писателей. На втором этаже стояли трибуны, с которых мы выступали, бесконечная ротация, я тоже, по несколько раз за день. Белый дом был очень живым местом, туда было просто интересно приходить. В городе он воспринимался как какой-то новый форум. Странные бумаги постоянно издавались. (Одну из них я видел в Торговцеве, пришпиленную к стене в бане: это напечатанное на бланке «Президент РФ» письмо Руцкого от 25.9.93.).
Банный лист.
Мы оказываемся в маленькой рощице, заваленной не то хламом, не то памятными инсталляциями. Между деревьями полощется флаг, сшитый из красного, черно-желто-белого и еще какого-то.
— Здесь, где мы стоим — важное, мистическое место. Это поминальный мемориал. Мы считали, что на баррикадах Дома советов соединилось несоединимое, красная и белая идеологии. Вот это дерево, я его называю языческим деревом, берегиня, в дни поминаний увешивается ленточками. Это язычество — вот ленты, вон еще, вон — символизирующие партию зеленых, черных венедов: в патриотическом движении было сильное антихристианское направление. Рядом с этим языческим деревом — поминальная часовня, крест, всем невинноубиенным мученикам. А вот там макет баррикады, сделанный из тех же материалов, из которых были сделаны и те, 1993 года. Плиты, из асфальта выламывали, складывали, турникеты, которыми митинги огораживали, много колючей проволоки, спираль Бруно, сейчас меньше, кто-то на сувениры упер.
— Спираль Бруно что такое?
— Это такая колючая проволока жестокая, с маленькими ножами, не пройти, рвет все страшно. Эта баррикада символизирует красный аспект сопротивления. То есть языческое древо плюс христианская часовня плюс красная баррикада. Единый комплекс… Дом был осажден и забаррикадирован. Сначала нужно было пройти через омоновское оцепление, потом через казачью заставу с деревянными шашками и пулеметами, ею руководил восхитительный казак Морозов, с золотой бородой, усами, лихой, очаровательнейший человек, бравирующий, нравившийся женщинам, демонстрировал свои лампасы. Обожающие дамы смотрели на него.
— Какие еще дамы?
— Ну женщины, патриотки приходили сюда, это же была революция, связанная и с женщинами.
— Это бабушки, что ли, которые у метро торгуют «Завтра»?
— Вы помните картину Делакруа? Теперь многие патриотки из тех состарились, но они были такие… Там были молодые актрисы, там был центр, который волновал людей, волновал Москву.
— Да что вы мне рассказываете. Я прекрасно все помню.
— А вы там были?
— Полагаю, у меня были другие заботы.
— Почему вы туда не приходили? Вот вы сейчас с огромным опозданием спрашиваете об этом. А если бы вы пришли, вас бы вовлекло это. А рокеры? А диггеры наши патриотические? А молодые девки-баркашовки, которые обожали своих молодых нацистов и фашистов, в форме, камуфляжах? Все эти политические движения были наполнены женственностью, там была своя эротика революционная. Конечно, там были и дедушки, и бабушки, там были молодые священники, до сих пор у моего Андрюшки в знакомцах отец Никон, который пережил все это, раньше играл на саксофоне, а потом ушел в монахи. Там были мои сыновья, молодые пацаны, ваши ровесники. А с ними ходили подруги. Там было все. Там было вино, эротика, там был флирт, был театр, там была ненависть, там были заговорщики, там было ожидание этого боя, там были тайные автоматы, гудели микрофоны. Все это клокотало. То снег, то солнце, то вино, то водка, то гусь, то черный хлеб. Тащили из домов какую-то снедь, яства.
— А вы что носили?
— А я носил свежие номера газеты, поддержать осажденных. Что я мог еще носить-то?
— Не знаю, нарезку… что там у вас в редакции подавали обычно.
— Зачем? Там мне подавали, чего это я буду носить, я был званый человек. Я выступал непрерывно с трибуны, устраивал сходки, выпускал газету, газета вдохновляла. Была ведь информационная блокада: толпы телевизионщиков все время выплескивали в эфир диффамирующие материалы.
— Да, я упивался этими репортажами.
— А мы были одной из немногих газет, которые давали другой образ всего происходящего: образ восстания, образ революции. Это было действительно революционное состояние. Я думаю, в 1905 году так клокотало. Офицерство, казачество — такой революционный театр, с музыкой, с гитарами, но и с заговорами, самокатчиками, которые уходили в гарнизоны депешами…
Последние десять дней Белый дом был полностью блокирован ОМОНом, и сочувствующим приходилось пробираться по подземельям. Они загружались где-то в районе Белорусского: «какой-то красный уголок ветеранов, там в доме сбор был. Всем раздавали фонарики, были поводыри — диггеры; изломанный какой-то человек повел нас к какому-то другому люку, смотрели, чтобы у него не было охраны, и долго шли. Вышли в вентиляционную шахту, с той стороны». Туда же во время штурма убегали люди — одни к «Белорусской», а другие — к Новодевичьему, вдоль набережной, по канализационным трубам, иногда, кстати, им приходилось идти через кипяток.
Так они прожили дней десять.
Несколько раз ему приходилось ночевать там, прямо на стульях в чьем-нибудь кабинете. «Складываешься, спишь. Была холодрыга, ведь отключили там все. Приходилось кутаться. В ковры закутывались. А позже просыпались, встречались, беседовали при лампаде. Катакомбное впечатление, темный коридор в ночи, как пещера в Псково-Печерском монастыре. Там светильник, там свечечка, над свечечкой склонился монах-мыслитель — подходишь, а это Ачалов, оказывается. Ха-ха».
Нельзя сказать, что он сидел там безвылазно. Он бывал дома, в редакции, посещал митинги, дни рождения и рестораны, он знал, что если хочешь написать роман, нельзя ждать, что роман придет к тебе просто так, — надо жить соответствующим образом. «Я по-прежнему ощущал, что складывается романная ткань. Я всю жизнь знал, что все эти эпизоды, все эти переживания так или иначе лягут в тексты, станут плотью романа. Я видел, что опять возникает историческая конвульсия жизненная, такое сжатие, сюжет, и я предвидел, как он будет разрешаться. Кроме политических, была еще задача художественная: все это увидеть, пережить, поставить себя на место всего этого, и я был на заседании штаба, наблюдал процедуры, фиксировал поведение всех и вся — на демонстрациях, под землей, в столкновениях с ОМОНом».
2 октября 1993 года ему в редакцию позвонил будущий путинский идеолог Владислав Сурков, в тот момент один из руководителей МЕНАТЕП. Им уже приходилось до этого однажды встречаться, поэтому Проханов без особого удивления принял его приглашение отобедать в «Балчуге». Ельцинист, разумеется, тот интересовался ситуацией, прогнозами, диспозицией, тенденциями — «играл роль такого разведчика». Зачем? «Они волновались; не зря к Белому дому буржуа приходили с цепями — бить защитников, и когда их выводили, толпа буржуазно-либеральная их освистывала». Проханов рассказывал о том, что задача оппозиции была дотянуть ситуацию до 4 октября, когда в Москву должны были съехаться представители регионов, и реализовать так называемый «нулевой вариант», при котором неконституционными объявлялись действия и Ельцина, и оппозиции, ельцинский указ дезавуировался, конфликт рассасывался, назначались новые выборы парламента и президента. «Мне казалось, что мы дотягиваем до 4-го числа, и важность нашей политики состоит в том, чтобы дотянуть, выстоять, не сдаться, не замерзнуть. А у Суркова были более скептические представления, он сказал, что до 4-го мы не дотянем». На что Проханов окрысился и заявил ему: «Дело ваше хана». На том они и разошлись.