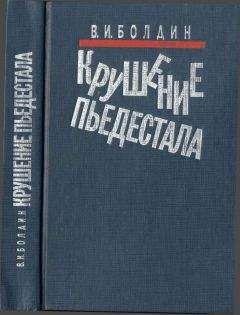Когда я встретился с ним в конце 1989 или начале 1990 года и сказал о своих планах, он задумался.
— Мне кажется, в стране происходят некие крупные изменения, и видеть все это важно изнутри, а человеку пишущему особенно. Не торопись, подумай. Я тоже поначалу очень жалел, что мне пришлось уйти из печати. А потом понял, что в познании я приобрел, может быть, больше, чем потерял.
А как кончилась его работа в «Правде», он мне поведал «в лицах». Рассказчик он великолепный. Богатый язык, очень интеллигентная речь и манера говорить. Да и период, о котором он рассказал, интересен.
— Было это, — Леонид Федорович Ильичев морщит лоб, — где-то в начале 50-х годов. Сталин меня знал хорошо, позванивал изредка по делу. И вот однажды звонит в 12 часов ночи и приглашает на «ближнюю» дачу. Это в Волынском, ты знаешь. Через час приезжаю. На даче, кроме Сталина, Маленков, Берия и еще кто-то — сейчас запамятовал. Они уже сидели за накрытым столом и ужинали. Пригласили меня. Спросив, что буду пить, наливают грузинского вина. А я ужасно голоден, времени второй час ночи. Работали тогда вообще допоздна, а в газете — до рассвета. Пошло это со времен войны, но так и осталось до последних дней жизни Сталина. Да… так вот, наливают мне вина, как сейчас помню: рубиновый цвет и вкус божественный, букет — великолепный… И тост поднимают за Сталина. А фужер великоват, тогда посуда у Сталина вместительная была. Пьют, смотрю, все с удовольствием, со знанием дела и до дна. А я отпил половину и чувствую — задыхаюсь, остановиться надо. Ставлю фужер, тянусь к закуске, и тут до меня слова Берии доходят. Он следит за мной внимательным взглядом и возмущенно говорит, вроде ни к кому не обращаясь, но имея в виду меня:
— За товарища Сталина надо пить до дна.
Я что-то лепечу о работе, самочувствии. А Берия уже стоит и трагическим голосом говорит:
— Товарищ Сталин, разрешите я допью его бокал за ваше здоровье.
У Сталина только глаза поблескивают насмешливо, а может, выпил уже достаточно и шальные мысли витают в его голове. Мне даже дурно стало. Схватился я за бокал и держу накрепко, а Берия руки мои пытается оторвать.
— За товарища Сталина хочу выпить, — и тонкие губы его белеют и кривятся в усмешке.
Чувствую, он пьян, и, чем все кончится, предсказать трудно. Тогда я встаю, говорю здравицу в честь Сталина и, собрав все силы, допиваю фужер.
Тяжело он мне дался. В таких объемах я не пивал, да тогда и вообще пил редко. Сижу и чувствую, что во мне хмель растекается, каждую клеточку дурманит, аппетита уже нет, лишь дурнота наваливается. Смотрю, а уже бокал снова полон, и тост теперь за Берию. Ну, думаю, пропал. Отпил немного, поставил фужер за графин и пытаюсь дотянуться до закуски. И кусок поросятины присмотрел, как слышу — Сталин говорит:
— А почему товарищ Ильичев за нашего уважаемого Лаврентия не хочет выпить? Обиделся или не в ладах с нашими органами? Если обида, тем более надо выпить мировую.
— Товарищ Сталин, — лепечу не своим голосом, — да я еще дух не переведу…
И чувствую, что могу что-то не то сказать, мол, не вождь же он, но умолкаю.
— Нэ может он, — обращаясь к собравшимся, не глядя на меня, говорит с явным акцентом Сталин. — Давайте, товарищ Ильичев, я выпью ваш маленький бокал за уважаемого Лаврентия, нашего друга.
И опять я хватаюсь за фужер и уже без здравиц пью, захлебываясь. Пили мы еще за кого-то, и меня уже не надо было просить, я лишь изредка взглядывал на тот высмотренный мной кусок поросятины, а потом заметил, что его уже нет. Да и есть мне расхотелось. Воспоминания одолели, байки и анекдоты журналистские рассказываю, вижу — все смеются, с интересом на меня смотрят. Запомнил я, что когда уходил, то Маленков, помогая одеться, поддерживал меня за плечо.
…Только через несколько лет я узнал, что было потом. А потом было следующее. Все вернулись за стол, и Сталин спрашивает:
— Так что будем делать с главным редактором «Правды»? Назначать ли Ильичева?
— Пьет много, товарищ Сталин, — говорит Берия.
— Да и на язык не воздержан. Посолиднее бы надо человека, поосновательнее.
— Согласен, Лаврентий, — сказал Сталин, — предлагайте, кого назначать.
— Вот так все это было, — продолжает Л. Ф. Ильичев, с печалью вспоминая события сорокалетней давности. — Назначение мое не состоялось, а пришел главным редактором «Правды» Шепилов. С тех пор газетная работа у меня закруглялась. А с переходом в МИД и ЦК вовсе кончилась. Но я не жалею. Не жалей и ты, а когда сможешь — пиши, перо из рук не выпускай.
Через несколько месяцев Л. Ф. Ильичев ушел из жизни. Академик, заместитель министра иностранных дел, журналист, бывший секретарь ЦК КПСС, он был большим ценителем живописи. Собрав за многие годы десятки великолепных полотен знаменитых художников с мировым именем, он подарил их музеям, в том числе и своему родному городу Краснодару.
Возможно, и правильный совет дал мне Л. Ф. Ильичев, но обстановка становилась все более чуждой. Не осталось с Михаилом Сергеевичем практически никого, с кем он начинал в 1985 году радикальные реформы. Одних он «ушел», другие ушли сами, и я был как маленький островок в непонятном и все более чуждом мне окружении.
Впрочем, оставались люди, которым, как говорил М. С. Горбачев, он доверял полностью, — Д. Т. Язов и В. А. Крючков. Президент по нескольку раз в день звонил им, часто встречался. Они постоянно докладывали ему о положении дел в стране, армии, о политических течениях, проводимых ими мерах или намечаемых акциях. Михаил Сергеевич ежедневно просматривал или внимательно изучал сотни страниц различной информации. Он просил и меня поддерживать с Крючковым и Язовым постоянный контакт, советоваться и помогать им в чем можно. Но, несмотря на эти частые общения, президент нередко передавал через кого-то им просьбу подготовить тот или иной документ. Сначала я не придавал этому значения, а потом понял, что доверие доверием, а М. С. Горбачев страхуется, решая какие-то деликатные вопросы через других.
Д. Т. Язова я знал меньше, а с В. А. Крючковым меня познакомил несколько лет назад А. Н. Яковлев, когда Владимир Александрович работал еще в разведке. Он пригласил нас к себе на дачу, и я впервые увидел человека, о котором немало слышал. В. А. Крючков обладал спокойным и веселым нравом, тонким и добрым юмором, часто шутил, с близкими ему людьми устраивал забавные розыгрыши и в нерабочей обстановке был компанейским веселым человеком. Насколько я знал, он был трезвенником и практически не пил. И только на официальных обедах набивал льдом стакан, наливал содовую воду, сдабривая все это глотком виски. Он почему-то считал, что талая вода полезна, и льда не жалел.