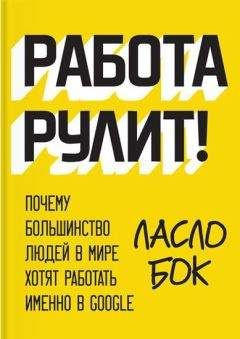Воскресенье, 8 июня. На вечере в посольстве я была настолько хороша, насколько только способна. Платье производило очаровательнейший эффект. И лицо расцвело, как бывало в Ницце или в Риме. Люди, видящие меня ежедневно, рты разинули от удивления.
Мы приехали довольно поздно. Я чувствовала себя очень спокойно и очень хорошо… Довольно много знакомых. Madame А., которую я встречала у Г. и которая мне раньше не кланялась, раскланивается со мной любезнейшим образом. Я была под руку с Г., который представляет мне Менабреа, итальянского министра. Мы разговариваем об искусстве. Потом Лесепс рассказывает мне длиннейшую историю о Суэзском канале. Мы проболтали с ним довольно долго.
Потом я говорила с бывшими там художниками; они все пожелали мне представиться, очень мною заинтересованные. Но я была так красива и так хорошо одета, что они вынесут убеждение, что я не самостоятельно пишу свои картины. Там были Шереметев, Леман, пожилой человек, очень симпатичный, значительный талант и, наконец, Эдельфельд – тоже не без таланта. Вообще все шло очень хорошо. Вы видите, что главное – быть красивой. Это дает все остальное.
Вторник, 10 июня. Боже мой, до чего это интересно – улица! Все эти человеческие физиономии, все эти индивидуальные особенности, эти незнакомые души, в которые мысленно погружаешься.
Вызвать к жизни всех их или, вернее, схватить жизнь каждого из них! Делают же художники какой-нибудь «бой римских гладиаторов», которых и в глаза не видали, – с парижскими натурщиками. Почему бы не написать «борцов Парижа» с французской чернью. Через пять, шесть веков это сделается «античным», и глупцы того времени воздадут такому произведению должное почтение.
Была в Севре, но скоро возвратилась. Натурщица моя совсем не подходит для деревенской девушки, и я опять возьму нашу судомойку. С этой Армандиной дело не пойдет на лад: очень уж отдает от нее балетом. И это я, претендующая на изображение нравственного мира человека, чуть было не написала маленькую потаскушку в крестьянском платье… Нет, мне нужно настоящую здоровенную девицу, которая не то дремлет, не то мечтает на жарком воздухе и которой завладеет первый встречный парень.
Но эта Армандина – вот идеальная глупость! Я стараюсь заставить ее разговаривать. Когда глупость не сердит, она забавляет. Слушаешь с благосклонной любознательностью и наблюдаешь нравы! Все эти наблюдения я дополняю моей интуицией, которую, если позволите, я назову поистине замечательной.
Среда, 25 июня. Перечла свои тетради 1875, 1876 и 1877 годов. На что я там только ни жалуюсь; это постоянное стремление к чему-то… неопределенному. Я сидела каждый вечер, разбитая и обессиленная этим постоянным исканием – что делать со своей яростью и отчаянием? Поехать в Италию? Остаться в Париже? Выйти замуж? Взяться за живопись? Что сделать с собой? Уезжая в Италию, я не была бы уже в Париже, а это была жажда- быть зараз повсюду!! Сколько во всем этом было силы!!!
Будь я мужчиной, я покоряла бы Европу. В моей роли молодой девушки я расходовалась только на безумные словоизлияния и эксцентрические выходки…
Бывают дни, когда наивно считаешь себя способной ко всему: «Если бы хватало времени, я была бы скульптором, писательницей, музыкантшей»…
Какой-то внутренний огонь пожирает нас. А смерть ждет в конце концов, неизбежная смерть – все равно, буду ли я гореть своими неисполнимыми желаниями или нет.
Но если я ничто, если мне суждено быть ничем, почему эти мечты о славе с тех пор, как я сознаю себя? И что означают эти вдохновенные порывы к великому, к величию, представлявшемуся мне когда-то в форме богатств и титулов? Почему – с тех пор, как я была способна связать две мысли, с четырех лет, – живет во мне эта потребность в чем-то великом, славном… смутном, но огромном?.. Чем я только ни перебывала в моем детском воображение!.. Сначала я была танцовщицей – знаменитой танцовщицей Петипа, обожаемой Петербургом. Каждый вечер я надевала открытое платье, убирала цветами голову и с серьезнейшим видом танцевала в зале, при стечении всей нашей семьи. Потом я была первой певицей в мире. Я пела, аккомпанируя себе на арфе, и меня уносили с триумфом… не знаю кто и куда. Потом я электризовала массы силой моего слова… Император женился на мне, чтобы удержаться на троне, я жила в непосредственном общении с моим народом, я произносила перед ним речи, разъясняя ему свою политику, и народ был тронут мною до слез… Словом, во всем- во всех направлениях, во всех чувствах и человеческих удовлетворениях – я искала чего-то неправдоподобно великого… И если это не может осуществиться, лучше уж умереть…
Понедельник, 30 июня. Мне стоило таких усилий удержаться, чтобы не прорвать моего холста ударом ножа. Ни один уголок не вышел так, как бы мне этого хотелось. Остается еще сделать руку! А когда рука будет сделана, придется еще столько переделывать!!! Этакое проклятие.
И три месяца, три месяца.
Нет!!!
Я забавлялась, составляя корзинку земляники, каких обыкновенно нигде не увидишь. Я набрала сама, с длинными стеблями, настоящие веточки, и вместе с зелеными, из любви к краскам… и потом листьев… Словом, чудеснейшая земляника, собранная руками художницы со всевозможной изысканностью и кокетством, как когда делаешь вещь совершенно непривычную… И потом, еще целая ветка красной смородины.
Я ехала так по улицам Севра и в конке, старательно поддерживая корзинку на воздухе, чтобы ветер обвевал ее и не поблекли бы от жары ягоды, из коих не было ни одной с пятном или царапиной. Розалия смеялась: «Если бы кто-нибудь из домашних увидел вас, барышня!»
Вторник, 1 июля. Опять этот ужасный Севр! Но я возвращаюсь рано – к пяти часам. Картина почти кончена.
Но смертельная тоска мучит меня; ничто не идет у меня на лад.
До сих пор после дней самой ужасной тоски всегда находилось что-нибудь, вновь призывавшее меня к жизни. О, Господи, зачем Ты допускаешь меня рассуждать! Мне так хотелось бы верить безусловно. Я и верю и не верю. Когда я размышляю, я не могу верить.
Но в минуты горя или радости – первая мысль моя обращена к Богу.
Четверг, 3 июля. Сегодня в семь часов утра я была у Потена. Он осмотрел меня довольно небрежно и послал в Eaux-Bonnes. Посмотрим еще. Но я прочла письмо, которое он посылал своему товарищу на водах; я его преспокойно распечатала. Он пишет, что верхушка правого легкого попорчена, и что я самая безалаберная и беспечная больная в мире.
Потом, так как еще не было восьми часов, я отправляюсь к маленькому доктору в улицу Лишенье. Он показался мне серьезным малышом, потому что мое состояние вызывает в нем заметное неприятное удивление, и он очень настаивает, чтобы я пошла к царю. науки – какому-то там Бушару Гранте. Он говорит, что теперь это осложнение моей хронической болезни… Вообще, он во что бы то ни стало хочет тащить меня к этому Гранше.