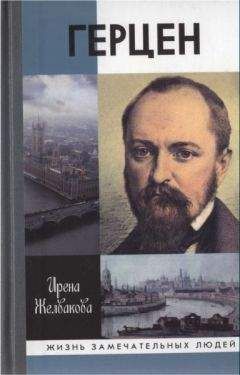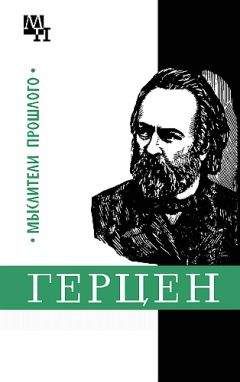Год за годом — 1849, 1850, 1851-й неумолимо приносили Герцену все новые несчастья. Укатали Сивку крутые горки… Что готовил год 1852-й?
Небольшие улучшения в течении болезни Натали чередовались с новой опасностью. 5 января врачи даже заявили о безнадежном состоянии больной. Ее мучили страшные головные боли, постоянно «перед глазами, точно открытая могила», возникала картина бушующего моря.
В эти невыносимые для Герценов дни Гервег вынашивал свой план мщения. Не в силах пережить поражение, ущемленный в своих давно признанных мужских достоинствах, он берется за перо. Месть, месть, пока на бумаге. Стоит перебелить черновик, исчерканный в поисках самых разящих слов (и они нашлись!), чтобы через несколько дней почта доставила до семейного дома, где, кажется, о нем хотят позабыть, это «страшное письмо». В роли отвергнутого любовника и отринутого друга семьи он не привык выступать.
Еще необходимо, чтоб о скандале узнали все — непосвященные и заинтересованные, все без разбора — друзья, враги. И, конечно, первая в этом списке, не раз покинутая, а теперь торжествующая Эмма, верная союзница мужа. Она уведомлена Гервегом, что на днях свершится: Герцен получит свое. Эмма спешит поделиться с их общими знакомыми К. Фогтом, К. Э. Хоецким и Ф. Орсини известием о посланном письме.
Это письмо Гервега жене не сохранилось. О нем известно лишь со слов Герцена, в свою очередь, получившего информацию о готовящемся ударе Гервега от К. Фогта. В «Былом и думах» читаем: «Фогт подтвердил мне, что два дня тому назад Эмма показывала письмо мужа, в котором он говорит, что пошлет мне страшное письмо, что он сбросит меня „с высоты, на которую меня поставила N[atalie]“ — что „он покроет нас позором, хотя бы для этого надобно было пройти через трупы детей и посадить нас всех и самого себя на скамью подсудимых в уголовном суде“». Цитируя письмо, которого сам не видел, Герцен продолжал: «Наконец, он писал своей жене: „Ты одна чиста и невинна, ты должна бы была явиться ангелом карающим“… т. е. стало быть, перерезать нас».
Двадцать восьмого января Герцен уже держал в руках зловещий пакет от Гервега и не мог его не вскрыть. На обороте конверта прочитывалась надпись рукой бывшего «близнеца»: «Дело честного вызова». Отослать обратно, не открыв, было невозможно.
Вот это письмо в русском переводе[120] текста черновика, сохранившегося в записной книжке Гервега и обнародованного Э. Карром спустя 80 с лишним лет.
Гервег — Герцену 25 января 1852 года (дата белового оригинала):
«Зная ваши жестокие методы, мне приходится общаться с вами подобным способом. Я хочу исчерпать все мирные средства — и если они сведутся к нулю, я не исключу и скандала. В этом споре я буду вынужден призвать и третью сторону. Будьте уверены, что мой голос перекроет голос этого ребенка, плода кровосмешения и проституции, которого вы хотите предъявить всему миру как триумфальное доказательство, что вы не такой, как люди говорят. (Карр ставит здесь ссылку, что последние пять слов добавлены выше зачеркнутого слова „рогоносец“. — И. Ж.) Вот ваша великая душа — вы стараетесь решить проблему ценой унижения той, обладание которой вы оспариваете. Однако вы знаете из ее же собственных уст, что она никогда не принадлежала никому другому, кроме меня, что она осталась девственной в ваших объятиях, невзирая на всех ваших детей, — и таковой остается по сию пору. Вы также знаете, что мы были вместе в Женеве, в Ницце, день за днем, каждый день. Вам, наверное, говорили о таком союзе, где душа и тело едины, и о тех клятвах, которые только самая неописуемая любовь могла бы одухотворить и освятить. Когда же вы ее увидели, ее губы и тело еще пылали от моих поцелуев; вы узнали также, что в порыве любви она зачала от меня в Женеве ребенка, и я никогда не поверю, что вы и тогда не подозревали, как все остальные, — что не настолько обмануты, как хотите представить.
Вы не можете не знать, не понимать, что она была глубоко несчастна, и ей пришлось против воли родить ребенка от вас; что она просила у меня прощения, и я ее простил, ибо моя дружба к вам была тогда почти так же велика, как и моя любовь — я не хотел видеть ваших страданий. Мы доверились Эмме, на коленях умоляли ее принести себя в жертву и сохранить нашу тайну. Она видела нашу любовь; она видела нашу привязанность к вам; и она взвалила на себя это бремя — быть единственной несчастной. Но только вам одному известно, как можно обидеть женщину, когда всякой ложью, лицемерием, разными ухищрениями вы удачно изгоняете мужчин. Вы знаете, что целью нашей жизни с Натали было исправить несчастный случай в Женеве, что она думала и мечтала только о ребенке от меня и что все наше будущее заключалось в этой надежде. Когда она с вами говорила, она думала, что ей это удалось; возможно, вы не знали, что я остался неподалеку (то есть в Берне. — И. Ж.) только потому, что она была намерена уйти от вас.
Хватит. Вы не должны и дальше обладать женщиной, которую я не украл, а взял, ибо она сама говорила мне, что никогда вам не принадлежала. Что бы там ни было, мне не пережить, если вы будете вынуждать ее и далее.
К вашим незаслуженным оскорблениям Эммы вы добавляете позорное обвинение, что я соблазнил вашу жену. Есть достаточно причин, чтобы оправдать мое требование сатисфакции.
Будущий ребенок должен быть крещен в крови одного из нас. Другой был крещен совершенно иначе. Tempora mutantur[121]. Я обращаюсь с последним призывом к вашей чести — избрать предпочтительное для вас оружие. Давайте перережем друг другу глотки — подобно диким зверям, — поскольку мы уже больше не люди… Блесните же хоть раз, если вы действительно способны на это, чем-нибудь иным, кроме вашего кошелька. Гибель за гибель. Довольно холодных размышлений…»
Карр добавлял, что хотя запись кончается здесь, очевидно, Гервег придумал еще один острый удар, когда написал, согласно «Былому и думам»: «В заключение он доносил на нее и говорил, что судьба решает между мной и им, что „она топит в море ваше исчадие (votre progéniture) и вашу семью“». Далее в тексте «Былого и дум» приводились слова Гервега (вариант начала письма, оставшегося в записной книжке) также в передаче Герцена: «Вы хотели это дело кончить кровью, когда я полагал, что его можно кончить человечески. Теперь я готов и требую удовлетворения».
Герцен потом только раз раскрывал это письмо, а в годовщину рождения Натальи Александровны, 23 октября (по старому стилю) 1853 года, сжег его не читая. Трудно было даже через многие месяцы вновь пережить чудовищные обвинения и страшные признания. Взявшись за мемуары, Герцен напишет об этой первой своей «обиде, нанесенной ему со дня рождения», но самые острые места из письма все же оставит без внимания, не будет ни цитировать (теперь уже по памяти), ни даже упоминать о них.