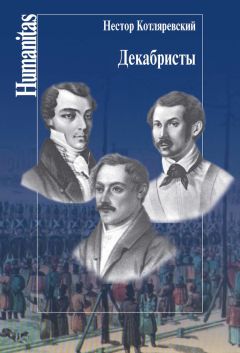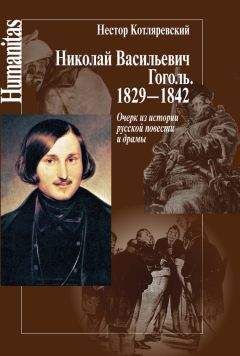Религиозная тенденция поэмы, действительно, просматривается очень ясно. Автор, вопреки истории, перенес умышленно в эпоху, когда жил Василько, ту резкую борьбу христианства и язычества, которая отмечала собой первые годы христианского просвещения России. Все чудесное и фантастическое в поэме пригнано к этому мотиву борьбы двух религиозных начал. Как в исторических романах из жизни императорского Рима, – перед нами два русских Киева, один – надземный, христианский, другой – языческий, подземный, и этот подземный, пожалуй, красивее правоверного. Одоевский с особой тщательностью украшал его разными фантастическими и археологическими подробностями, желая быть по возможности «самобытным». Чтобы дать образец этой «самобытности», конечно, поддельной, приведем несколько строф из той славянской «Вальпургиевой ночи», которую поэт вклеил в свою поэму. Она, несмотря на всю фальшь, – самый образный и поэтический эпизод его рассказа.
Автор рассказывает, как князь Давид, главный виновник погубления Василька, идет совещаться с подземными силами в пещеру около Киева, где по ночам совершаются жертвоприношения уже давно поверженному Перуну. Рассказ длинный, с подробным описанием пещеры и привидений, которые ограждают к ней доступ, с описанием какой-то страшной девы, с мечом и светочем в руке, не то прорицательницы, не то фурии, – одним словом, с богатым инвентарем романтических ужасов. Упоминаются, конечно, и все истинные и мнимые божества русской мифологии – Перун, Стрибог, Велес, Купала, Коляда, Ладо и Дажбог. В присутствии всех этих зловещих призраков разыгрывается сцена заклинания и проклятия христианского Киева. И вот какие мелодичные стихи попадаются в этой сцене:
Хор жрецов:
Грудных младенцев, непричастных
Греху отцов,
Несите, ведьмы и русалки,
Пред лик богов!
Мы на костре сожжем начатки
От их волос,
Чтоб сын славян богам славянским
Во славу рос.
Три ведьмы:
Мы змеею зашипели
И как вихорь понеслись;
С визгом в теремы влетели
И детей из колыбели
Мы схватили и взвились.
Все ведьмы:
Цепки у ведьмы медвежие лапы,
Лёгок наш конь-помело,
Свищем и скачем, пока на востоке
Не рассвело.
Русалки:
Неслышной стопою
Касаясь земли,
Мы руку с рукою,
Как ветви, сплели.
Мы песнь напевали
И в лунных лучах,
Как тени, мелькали
На Лысых горах.
Мы дев заманили
На песенный глас,
Вкруг липы водили,
И с каждой из нас,
Смеясь, целовались
Они сквозь венок
И с нами сплетались
В русальный кружок.
Вот сходим. Как птицы,
Поем и летим,
Со смехом в светлицы
Порхнем к молодым;
То шепотом сладко
Над люлькой поем,
Поем и украдкой
Дитя унесем…
Всем этим бесовским призракам Одоевский готовил в конце своей поэмы полное посрамление. Свершить злое дело им удалось, но все их чары были бессильны пред духом праведника. Ослепленный Василько утратил способность зреть внешний свет; но тем ярче продолжал ему светить свет внутренний.
И нигде религиозная идея всей поэмы не выражена так ясно, как в заключительных словах, которыми священник поясняет всем присутствующим значение совершившегося пред их лицом преступления:
Пред Спасом не виновен Василько,
И пред людьми страдалец не виновен:
Пройдут князья, пройдет и суд князей;
Но истина на небе и в потомстве,
Как солнце просияет!
С известным правом эти слова можно отнести и к самому автору.
И для него, которому перестала светить «денница жизни», которому «целый мир стал темницей», – и ему продолжал светить тот внутренний свет, в котором и заключался весь смысл и все движение его земной жизни.
Какой облик приняла духовная сторона этой жизни под лучами такого света – нам покажут сейчас стихотворения, писанные им для себя, в свое утешение и свою защиту, а не для обороны чего-либо постороннего, хотя бы и столь дорогого писателю, как «самобытная» литература его родины.
В одном стихотворении, посвященном памяти отлетевших от него милых образов, Одоевский очень картинно и верно назвал всю свою духовную жизнь «воспоминанием о красоте мира сквозь сон». Действительно, он жил только воспоминаниями, и в них ему всегда светила красота недоступного для него мира. Жизнь успела подарить Одоевскому только первую свою улыбку – именно в те ранние годы, когда человек смотрит на такую улыбку как на залог грядущего долгого счастья, как на намек возможного в мире блаженства; и наш поэт, в силу особых условий его блестящей и счастливой юности, мог быть легче, чем кто-нибудь, прельщен таким ранним приветом жизни. Когда он готовился проверить ее обещания, когда он ей задал первый серьезный вопрос и поставил первое свое требование, – он в один день и навсегда потерял сразу все, что люди теряют постепенно и к чему они, ввиду такой медленной утраты, становятся мало-помалу равнодушны. Одоевский очутился в совсем особом положении; он не знал медленного угасания надежд, не испытал, как одна за одной гаснут путеводные звезды, его сразу окутала тьма, и он продолжал любить, безумно любить жизнь, создавая в мечтах ее пленительный образ по тем мимолетным воспоминаниям, которые сохранил о ней.
При всем печальном колорите его стихотворений – печальном потому, что правдивом, – в его стихах нет и тени пессимизма. Как бы он ни скорбел о себе – он был далек от всякой скорби о жизни; он приветствовал ее где только мог, и каждый, самый мимолетный веселый луч ее, случайно падавший в его темницу, он встречал с благодарностью и радостью.
Эта веселая благодарность была приветом той жизни, которая с ее светом и движением, как неизвестный заповедный рай, начиналась за оградой его собственного существования.
Мир мечты не мог быть для Одоевского тем, чем он был для многих других, которые, идя свободно своей дорогой, пресытясь обманами жизни, говорили, что все, кроме мечты, – суета и разочарование, что красота и блаженство не в сближении с миром, а в отдалении от него, что счастье – в мечтах, а не на земле. Для Одоевского такое утешение в мечтах существовало лишь наполовину. Его мечта была лишь «воспоминанием о красоте жизни», которая не обманула его, не надоела ему, а наоборот, прельщала его издали.
Мечта, поэтическое творчество и тот веселый «мир», красоту которого он силился припомнить, слились в его представлении в одно неразрывное целое. Одоевский верил, что если все материальные его связи с этим миром порваны, то все-таки в его мечте осталась одна связь, неуловимо тонкая, но вместе с тем самая крепкая, которая пока цела и не даст ему погибнуть в одиночестве. Провожая последний «лучезарный хоровод блеснувших надежд», он молил эту воздушную деву-мечту запоздать своим отлетом; ее одну «неотлетного друга», просил он побыть с ним, в залог того, что всякая мечта не есть случайное видение, что в ней дано общение с другими людьми, что она может присниться и другому и на ту же высоту вознести думы ближнего:
Промелькнул за годом год,
И за цепью дней минувших
Улетел надежд блеснувших
Лучезарный хоровод.
Лишь одна из дев воздушных
Запоздала. Сладкий взор,
Легкий шепот уст радушных,
Твой небесный разговор
Внятны мне. Тебе охотно
Я вверяюсь всей душой…
Тихо плавай надо мной,
Плавай, друг мой неотлетный!
Все исчезли. Ты одна
Наяву, во время сна,
Навеваешь утешенье.
Ты в залог осталась мне,
Заверяя, что оне
Не случайное виденье,
Что приснятся и другим
И зажгут лучом своим
Дум высоких вдохновенье!
[«Последняя надежда. Е. А. Баратынскому», 1829]
Мечта, не как убежище для скорбящего и оскорбленного духа, а как живая связь с другими, – вот какой являлась Одоевскому эта богиня-фантазия, с которой большинство его современников любили встречаться не иначе, как вдвоем, в тишине, в уединении, вдали от людей и, по возможности, о них не думая.
«Как я давно поэзию оставил!» – говорил однажды Одоевский —
Я так ее любил! Я черпал в ней
Все радости, усладу скорбных дней,
Когда в снегах пустынных мир я славил,
Его красу и стройность вечных дел,
Господних дел, грядущих к высшей цели
На небе, где мне звезды не яснели,
И на земле, где в узах я коснел,
Я тихо пел пути живого Бога,
И всей душой Его благодарил,
Как ни темна была моя дорога,
Как ни терял я свежесть юных сил…
В поэзии, – в глаголах провиденья,
Всепреданный искал я утешенья —
Живой воды источник я нашел!…
О друг, со мной в печалях неразлучный,
Поэзия! Слети и мне повей
Опять твоим божественным дыханьем!
Мой верный друг! когда одним страданьем
Я мерил дни, считал часы ночей —
Бывало, кто приникнет к изголовью
И шепчет мне, целит меня любовью
И сладостью возвышенных речей?
Слетала ты, мой ангел-утешитель!
[«Поэзия», 1837–1839]
И за что же поэт так превозносил эту гостью? Не за то, что она ему давала забвение и под своим узорным покровом стремилась скрыть от него все мрачные стороны бытия, не за то, что она убаюкивала его мысль и смиряла тревогу сердца, – наоборот, лишь за то, что – высшее проявление жизни – она учила его любить эту жизнь и в конечном мире чуять бесконечность духа. Она была – Божьим глаголом, вдыхающим жизнь и вечность в Божий свет, и отнюдь не призывом к забвению того, что на этом свете творится: