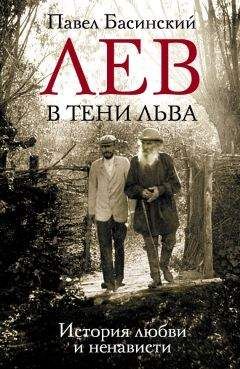«Он всегда преувеличивал свою некрасивость, — говорила про него его сестра Мария Николаевна, — он был очень мил и привлекателен, когда, бывало, в минуты оживления, он всех нас заражал своим веселием. В эти минуты его лицо озарялось задорной улыбкой, сияли остроумием его лучезарные, проницательные глаза и совершенно забывались неправильные черты его лица».
Науки не интересовали Льва, но тетенька Полина настаивала, чтобы он готовился к университету, и Льву самому хотелось поскорее надеть мундир с золотыми пуговицами, треуголку, прицепить шпагу и, наконец, сделаться «совсем большим».
«Помню, как я, когда мне было 15 лет, переживал это время, как вдруг я пробудился от детской покорности чужим взглядам, в которой жил до тех пор, и в первый раз понял, что мне надо жить самому, самому избирать путь, самому отвечать за свою жизнь перед тем началом, которое дало мне ее.
Помню, что я тогда, хотя и смутно, но глубоко чувствовал, что главная цель моей жизни — это то, чтобы быть хорошим, в смысле евангельском, в смысле самоотречения и любви. Помню, что я тогда же попытался жить так, но это продолжалось недолго. Я не поверил себе, а поверил всей той внушительной, самоуверенной, торжествующей мудрости людской, которая внушалась мне сознательно и бессознательно всем окружающим. И мое первое побуждение заменилось очень определенными, хотя и разнообразными желаниями успеха перед людьми: быть знатным, ученым, прославленным, богатым, сильным, т. е. таким, которого бы не я сам, но люди считали бы хорошим».
В период этого внутреннего одиночества жизнь Льва озарилась для него большим счастьем. Это была его горячая, почти страстная дружба с Дмитрием Дьяковым. Вероятно, Дмитрий, такой же чуткий и застенчивый, как Толстой, почувствовал что–то необыкновенное в робком и одновременно смелом в своих суждениях Толстом.
Вот как описывает начало этой дружбы Толстой в своей повести «Отрочество», когда Дмитрий (Нехлюдов) с удивлением заявил, что он не думал, что Толстой такой умный. «Похвала так могущественно действует не только на чувство, но и на ум человека, что под ее приятным влиянием мне показалось, что я стал гораздо умнее, и мысли одна за другой с необыкновенной быстротой набирались мне в голову… Несмотря на то, что наши рассуждения для постороннего слушателя могли показаться совершенной бессмыслицею, так они были неясны и односторонни — для нас они имели высокое значение. Души наши так хорошо были настроены на один лад, что малейшее прикосновение к какой–нибудь струне одного находило отголосок в другом… Нам казалось, что недостает слов и времени, чтобы выразить друг другу все те мысли, которые просились наружу».
Легко себе представить, с какой жадностью и восторгом Толстой отвечал на те чувства, которые выказывал ему Дмитрий. Как голодный, он не мог насытиться разговорами, обменом мыслей, которые бурлили в нем, душили его, не находя исхода. Левочка был счастлив, он был благодарен судьбе и Дмитрию за то, что он есть, за то, что он давал ему ту внутреннюю духовную пищу, которой он столько времени жаждал.
«Я сказал, что дружба моя с Дмитрием открыла мне новый взгляд на жизнь, ее цель и отношения. Сущность этого взгляда состояла в убеждении, что назначение человека есть стремление к нравственному усовершенствованию, что усовершенствование это легко, возможно и вечно».
«…Пришло время, когда эти мысли с такой свежей силой морального открытия пришли мне в голову, что я испугался, подумав о том, сколько времени я потерял даром, и тотчас же, ту же секунду захотел прилагать эти мысли к жизни, с твердым намерением никогда уже не изменять им».
Со временем, разумеется, первый пыл, восторженность этой новой любви ослабели: «в первой молодости мы любим только страстно и поэтому только людей совершенных», а «я уже слишком давно начал обсуживать его, для того, чтобы не найти в нем недостатков», — писал Толстой. Но привязанность его к Дьякову и теплое чувство благодарности за то, что он дал ему в ранней юности, остались в нем на всю жизнь.
В то время в Казанском университете самым блестящим был факультет Восточных языков с кафедрами китайского, персидского, армянского, санскритского языков, на котором изучались арабский, монгольский, тюркский, манджурский и другие языки, и Лев Толстой решил, что он будет дипломатом. Он держал вступительный экзамен 5 июня 1844 года, но провалился и снова держал вступительный экзамен 4 августа того же года по арабскому и турецко–татарскому языкам, и на этот раз выдержал. Он был в восторге. Наконец–то он взрослый. У него появился собственный выезд, будочники будут отдавать ему честь, он будет всюду принят, Сен—Тома ему более не нужен, и никто не может запретить ему курить. Первое время он занимался в университете очень хорошо, но веселая, светская жизнь Казани захватила его, и он стал все реже и реже посещать лекции. Несмотря на то, что Толстой был принят в Казанское общество с распростертыми объятиями, он все же не сумел в него влиться так легко и свободно, как брат Сергей. И он постоянно завидовал брату, его умению подойти к красивым женщинам, свободно и легко обращаться с ними, ухаживать за ними, умению носить мундир и шинель с бобровым воротником, веселиться и грешить, не мучаясь потом раскаянием, словом, быть до мозга костей «ком иль фо».
«Зимний сезон 1844 – 45 года, когда Л. Н. Толстой… стал уже выезжать в свет, был еще более шумен. Балы, то у губернатора, то у предводителя, то в женском Родионовском институте, … частные танцевальные вечера, маскарады в дворянском собрании, благородные спектакли, живые картины, концерты — беспрерывной цепью следовали одни за другими, — пишет Загоскин. — … Казанские старожилы помнят его (Льва Толстого) на всех балах, вечерах и великосветских собраниях, всюду приглашаемым, всегда танцующим, но далеко не светским дамским угодником, какими были другие его сверстники, студенты–аристократы, в нем всегда наблюдали какую–то странную угловатость, застенчивость…» «Бирюк, которого все мы звали не иначе как философом и Левушкой, неуклюжий и постоянно стесняющийся».
И между тем он с невероятным упорством стремился к светскости, и идеалу, созданному им в брате Сергее, стремился к людям, с которыми инстинктивно чувствовал себя несвободно и непросто.
«Мое любимое и главное подразделение людей в то время, о котором я пишу, — было на людей comme il faut и на comme il ne faut pas[9]. Второй род подразделялся еще на людей собственно не comme il faut и простой народ. Людей comme il faut я уважал и считал достойными иметь со мной равные отношения; вторых — притворялся, что презираю, но, в сущности, ненавидел их; …третьи для меня не существовали — я их презирал совершенно».