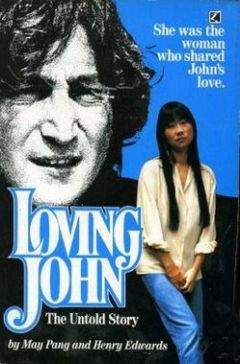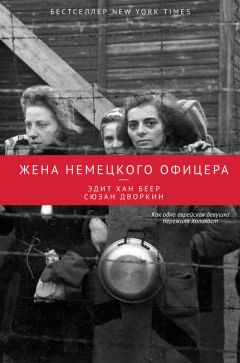Пансионат-интернат, который поначалу возник как некая туманная угроза, стал реальной действительностью. Меня послали в Веймар — город Гете, город моего идола. На протяжении всех школьных лет я боготворила Гете, и неудивительно, что оставалась под его большим влиянием всю жизнь, он был моим кумиром. Его философия, которая направляла меня и моих одноклассников в период становления нашей личности, возможно, была близка мне еще потому, что я осталась без отца, а мне так нужен был мудрый руководитель.
Когда я узнала, что еду именно в Веймар, я почувствовала себя счастливой, хотя трудно и больно было расставаться со своими близкими. Но… как всегда, я повиновалась.
Школа холодная, улицы чужие, даже воздух иной, не такой, как в нашем большом городе. Никого рядом — ни мамы, ни близких, не было даже убежища, чтобы укрыться и дать волю слезам.
Мы спали по шесть человек в комнате. Я росла в обеспеченной семье, привыкла иметь свою комнату, и поэтому мне приходилось труднее, чем другим ученицам. Вероятно, в таком воспитании заложен большой смысл, но вполне естественно, что понять все это можно лишь гораздо позже. А пока вы страдаете, ночи напролет лежите без сна, еле сдерживая рыдания, тоскуете по маме, по дому. Но в конце концов вы привыкаете ко всему, перестаете плакать и учитесь исполнять свои обязанности вне зависимости от своих чувств. Все регламентировано: по улицам надо идти по двое, слыша за собой шаги следующей пары (не знаю почему, но я всегда была в первой паре). Вы проходите мимо людей, идущих за покупками или непринужденно разговаривающих, и чувствуете свое отчаяние, заброшенность.
Мы плакали, читая «Страдания молодого Вертера», и нам хотелось кричать от восторга, что такой великий человек понимал наши юные души. Все молодые люди считают, что их никто не понимает. Так было испокон века, это общая болезнь молодежи. Ничего нового. Однако, что касается развития, пока переживается «болезнь роста», необходимо влияние поэзии, нужно некоторое воспитание чувств, нужна музыка, звучащая в тайниках души.
Об этом я рассказываю только для того, чтобы знали, что я чувствовала тогда, во время пребывания в Веймаре, какой я испытывала восторг любви, переполнявшей все мое юное существо. Это освещало мою жизнь и уберегало от дурных влияний.
У меня был кумир. Я вчитывалась в каждое его слово, следовала каждому его совету и считала его своим руководителем в жизни. Меня и сейчас ведет мудрость Гете. Все, что я получала оттуда, шло мне на пользу. Его дом, его город стали моим прибежищем. Женщины, которых он любил, соперницами.
Многие мои «биографы» сообщали, что я будто бы родилась в Веймаре. Это неправда. Но Веймар действительно стал моим «вторым домом», каждый житель которого в той или иной степени казался отмеченным печатью Гете. Его дом, его сад, дом его большого друга госпожи фон Штайн — все это было для нас святыней, сюда мы ежедневно ходили очищать свои души.
Пусть это было ослепление, но оно, будучи направлено на великого поэта и мыслителя, не имело ничего общего со слепым увлечением сегодняшней молодежи поп-музыкантами и певцами.
Гете делал нас неуязвимыми для всех искушений, которым могли подвергнуться души и сердца молодых людей. Мое воспитание и влияние Гете дали мне именно те моральные принципы, которым я осталась верна на всю жизнь.
Те из нас, кто занимался музыкой, имели разрешение три раза в неделю ходить в оперу. Какая радость была находиться в этом волшебном мире очарования ослепительных голосов и чудесного звучания скрипок! Все, что имело отношение к театру, миру музыки, всегда окрашивало наши желания и мечты.
Время моей юности было замечательно. Мы не подозревали, что такого избытка радости уже никогда больше не будет, мы просто наслаждались всем прекрасным.
Каждые три недели ко мне приезжала мама. Мыла мои волосы, наводила порядок в комнате, которая и без того всегда была аккуратно убрана.
То, что мать приезжает в другой город только затем, чтобы помыть голову дочери, наверное, в наши дни трудно представить. Но мама очень гордилась моими волосами и хотела, чтобы они оставались такими же прекрасными. Уверенности, что я сама могу справиться, у нее не было. Были и другие матери, которые приезжали «чистить перышки своим птенцам».
Я плакала, когда, уезжая, мама говорила «до свидания».
Несмотря на тоску по дому, музыка делала мое пребывание здесь прекрасным. Время, когда я не занималась музыкой, казалось скучным. В математике я была слаба, языки же и история, наоборот, давались легко.
Но вот наступил роковой день: день окончания школы. Нужно принимать решение — оставаться ли в интернате и продолжать дальнейшее обучение или возвращаться домой.
Приехала мама. Преподаватели по скрипке и фортепьяно ручались, что я как музыкант смогу достигнуть многого. Решение было принято такое: перевести меня в другой пансион здесь же, в Веймаре, и продолжать музыкальное образование. Жизнь стала еще прекрасней — музыкой я могла заниматься столько, сколько хотела. Я сама распоряжалась своим временем, сама составляла свою программу, ежедневное расписание. Позволяла себе ходить в концерты, оперу, театры, посещать библиотеки и совершать длительные прогулки. Регулярно я писала маме, и так же регулярно она отвечала мне.
Но вот попутный ветер изменил свое направление.
В Веймар совершенно неожиданно приехала мама, с тем чтобы отвезти меня в Берлин. Ей стало страшно за меня, она едва отвечала на мои недоуменные вопросы. Может быть, она беспокоилась о моем здоровье — я была далеко и она не могла ежедневно опекать меня; может быть, беспокоилась о моей нравственности — одна в чужом городе… Одним словом, я уезжала домой.
Мама дала мне время попрощаться с подругами, учителями. С грустью в последний раз пошла я к дому Гете, его саду. Я привыкла слушаться и не возражать. Молча я уезжала домой.
У меня появился новый учитель по скрипке. Это был профессор Флеш из музыкальной академии. После многочисленных прослушиваний, которые казались бесконечными, он взял меня в свой класс.
Началась новая жизнь. Бах, Бах, Бах — и ничего другого! Упражнения по восемь часов в день доводили меня и моих соучениц до полного изнеможения.
Я первая сошла с дистанции. Стала болеть рука, и так сильно, что я не могла играть. Врачи установили причину: воспаление сухожилия безымянного пальца левой руки. На руку наложили гипсовую повязку. Это был тяжелый удар. Хотя я знала, что никогда не стала бы первоклассной скрипачкой, никогда не стала бы выступать в концертах. Моя мама страдала еще больше меня. Драгоценную скрипку, которую она купила для меня, завернули теперь в шелковый платок и положили в черный футляр. Еще одна ее мечта была разбита. Впервые в своей юной жизни я осталась без дела.