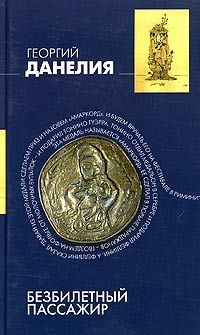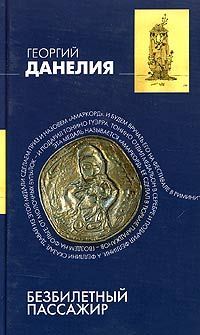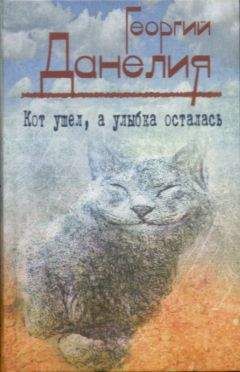На этом же красном велосипеде в конце лета отец тащил меня, привязав веревку к рулю, на станцию через темный лес. Он специально приехал за мной. Забрал с вещами из вольницы в первый класс, в школу. Я только держал баланс. Педали крутились сами. «Дорогой длинною…»
Зачем в повести поменял имя своей двоюродной бабушке Катерине Ивановне Стебловой на Дарью Ивановну – и сам не знаю. Скорее всего, опять же боялся повторов. Куда ни глянь – одни Катерины. И не просто Катерины, а Катерины Васильевны. Вот и няня, и первая учительница в школе – тоже Катерина Васильевна. Запомнил, что добрая и высокая. С ней было как-то легче переживать неволю начального образования.
Однако первое полугодие закончил я радостно – абсолютным отличником. Во втором полугодии умер Сталин. Три дня объявляли – болел. Потом умер. Все плакали. Говорили: «Горе, большое горе! Как теперь будем?» Многие возлагали надежды на Берию. Тоже грузин. В пенсне… Может быть, с ним будет не хуже? Люди хотели увидеть сами. Шли, шли и шли туда, где гроб, к Колонному залу. По первой Мещанской, по Сретенке я тоже брел с пацанами. Шнырял в обход по дворам вплоть до Трубной. Дальше толпа испугала меня. «И слава Богу, что ты вернулся», – сказали домашние. Через два дня узнал – многие не вернулись… Погибли. Зато со временем потянулись из тюрем некоторые из тех, кто выжил… В наш двор опять возвратился пирожник. Опять, во второй раз. Его то сажали, то отпускали, то сажали, то отпускали. Мы, пацаны, совершенно запутались – шпион или нет. Вообще при Сталине черные воронки у нас под окнами являлись обыденностью. Мужики с каракулевыми воротниками, которых все звали «органы», жили в фасадной многоэтажке. Один из них был приятелем моего отца. В гостях у него я впервые узрел телевизор. Размером чуть больше тумбочки, он стоял на полу и светил экраном с коробку от папирос «Беломор». Не помню название этой модели, более ранней, чем КВН. Помню, отец купил у приятеля пальто с каракулевым воротником. В семье решили: дешево и сердито. Папа долго его носил. Долго работал в «ящике» радиоинженером. На одном предприятии до самой пенсии, сорок лет. Он у меня человек постоянный и в деятельности, и в любви. Впервые они встретились с мамой в младенчестве, в частной прогулочной группе при Ботаническом саду. Познакомились и разбежались, чтобы встретиться снова в десятом классе школы рабочей молодежи, где заканчивали прерванное войной среднее образование. С тех пор и не расставались. Юрий Викторович и Марта Борисовна. Мама была педагогом, директором школы, заведовала аспирантурой. Мама устроила меня в детский сад. В хороший, при папином «ящике». Но я удержался там только день. Тосковал, не мог в коллективе. Мама жалела меня – забрала. Другое дело – пионерские лагеря, где она служила в летние месяцы. Там я жил не в отряде, а в отдельном коттедже начальницы лагеря. Мама командовала, а я гулял, где хочу. То с большими, то с маленькими. Днем спать не ложился, сидел в столовой. Часами сидел над тарелкой каши. В детстве почти ничего не ел. Теперь потихоньку наверстываю. Только раз мне понравилось в коллективе. Лагерный коллектив подняли на карнавал. Клеили, шили, придумывали, мастерили костюмы, маски. Мне сделали грим и я был счастлив весь вечер и ночью во время костра. Но после отбоя наступила расплата. Холодной водопроводной водой пытался содрать с себя грим. Дошел до отчаяния – не оттиралось размазанное лицо. Не знал, не догадывался, что нужно с мылом. Выдохся и расплакался. Сдался. Остался в гриме. Как будто кто-то открыл мне будущее. С тех пор, можно сказать, жизнь моя поделилась на две половинки: без грима и в гриме.
Первая учительница, Катерина Васильевна, не говорила нам про стиляг. О них говорили по радио, помещали карикатуры в газетах. Не помню имени. Фамилия Измирянц. Хрупкая одноклассница в новом берете. После уроков поджидали ее на улице всем классом, и как появилась, обступили плотной толпой. Она недогадливо улыбнулась растерянными глазами. В ответ молчание, тишина. Вдруг кто-то срывается в выкрик: «Стиляга!» «Стиляга, стиляга!» – с энтузиазмом подхватывает толпа. Я из толпы поначалу не понял, в чем дело, но вот уже сорвали с нее берет и перекидывали словно мячик, когда она тщетно пыталась поймать его, затем не выдержала – побежала. Толпа вроссыпь с криком за ней: «Стиляга! Стиляга!» Я – за толпой молча и с удивлением. Ее гнали до самого дома. Она заплакала лишь у подъезда, боялась войти, подняться к себе в квартиру. Тогда, помешкав, сжалились, вернули затоптанный новый берет Измирянц, только предупредили – не напяливать на себя больше иностранные вещи. Я запомнил хрупкую девочку в новом берете. Я запомнил, что не смог ее защитить. С тех пор старался не ходить в толпу. Другое дело – ходить по улицам. Вылететь прочь кубарем с третьего этажа, лететь, нестись куда-нибудь от тоски в центр. По Сретенке, по Лубянке, по улице 25-го Октября. На Красную площадь, в Кремль через Александровский сад. И будто бы выдохнув радостную эйфорию, плюхнуться на дерматиновое сиденье троллейбуса, чтобы «зайцем» вернул обратно сквозь коммуналку в кукольный театр.
Домашние в детстве показывали мне диафильм-сказку «Страна дураков». А я им показывал кукольный театр. И что бы кому бы потом не показывал более или менее профессионально, всего лишь хотел вернуться в свою «Страну». И перо Николая Васильевича Гоголя, и наши мультфильмы, и грузинские короткометражки, и многое-многое другое не совсем «правильное», смещенное, преувеличенное или преуменьшенное, недотепистое, несовместимое – мое внутреннее пространство – «Страна дураков».
Стихийной силе неизменна,
Хмельным весельем широка,
Печальной памятью забвенна
Страна Ивана Дурака, –
робко сложу я позже, пытаясь рифмовать.
«Кто это тянет меня веревками на колокольню?» – «Это я, жена твоя, тяну тебя веревками на колокольню, потому что ты колокол…» – намного раньше напишет гениальный Николай Васильевич в своей незаконченной вещи «Иван Федорович Шпонька и его тетушка».
До сих пор на даче, в сарае, пылится складная ширма, которую сделал отец. Он же научил меня формировать кукольные головы из папье-маше. И даже пытался резать из дерева. Тетя Катя помогала с шитьем. Со своей ширмой, с маленьким чемоданом, где теснились мои «артисты», всегда волнуясь, я шел выступать в школу или Дворец пионеров, или на какую-нибудь фабрику – куда пошлют. Без меня праздник – не праздник. Даже отпускали с уроков, чтоб готовился.
Я скупал резиновые клизмы в аптеке, вставлял им стеклянные, обретенные в зоомагазине глаза, приклеивал пробку на место носа, вырезал рот и заставлял говорить персонаж своим голосом, а иногда не своим – как получалось. За ширмой я забывался в конвульсиях упоительного самовыражения. Как гласит старая театральная шутка: «Занавес открылся, артисты заговорили не своими голосами, спектакль начался».