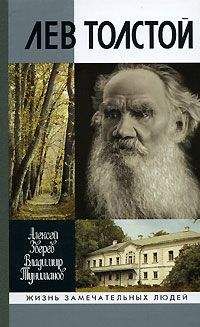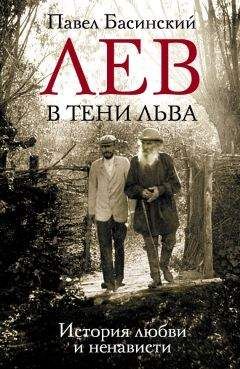В Ясной Поляне остался только управляющий. Водным путем, по Оке и Волге в Казань отправили с дворней и мастеровыми имущество, а семейство дождалось конца октября, когда установился санный путь. Ехали через Москву, Муром, Нижний. Так несколько лет повторялось каждую осень. Лев Николаевич вспоминал, что однажды прочел в пути «Монте-Кристо», восемь томиков мелким шрифтом: какие тогда были хорошие, молодые глаза! Было это не ранее 1846 года, когда появилось отдельное издание.
Юшковы проявили радушие, но особой близости к ним никто из братьев не чувствовал. Отставной лейб-гвардеец стал тихим обывателем, жил бездеятельно, перемигивался со смазливыми горничными да бренчал на фортепьяно. Пелагея Ильинична не отличалась ни обходительностью, ни широтой души. Человеком она была не злым, но капризным и взбалмошным. Любила светскую жизнь, хотя монастыри тоже охотно посещала, выстаивала службы, раздавала по обителям заказы на шитье золотом, однако с крепостными вела себя просто грубо. Интересов у нее не было никаких, перестановка дивана становилась событием. Тетушка не делала тайны из того, что в семейной жизни она несчастлива: муж и в молодости не испытывал к ней большой любви, а теперь вовсе охладел. В итоге они разъехались и Пелагея Ильинична окончила свои дни в Ясной Поляне, у племянника. Толстой пишет, что считал ее очень глупой.
Главной целью переезда был Казанский университет. Николенька уже учился в Московском, и его перевели в Казань на второй курс. Остальным надо было готовиться к поступлению.
С языками проблем не было, а по другим предметам братьев начал натаскивать еще в Ясной Поляне студент Михаил Поплонский. Занятия с ним Толстому не запомнились, осталась в памяти только характеристика, которую Поплонский дал каждому из них: «Сергей и хочет и может, Дмитрий хочет, но не может… Лев и не хочет, и не может». Что касается Митеньки, семинарист, считал Толстой, был не прав, но сказанное о нем самом находил «совершенной правдой». Что и подтвердилось.
Вступительные экзамены он выдержал, хотя и получил две единицы: по статистике и по истории — общей и русской. Выручили пятерки за французский и немецкий (хотя по латыни была двойка) да успехи в русской словесности, оцененные на четыре. Правда, пришлось держать дополнительные испытания по тем дисциплинам, которые не дались с первой попытки. Все это происходило весной и летом 1844 года. Сергей и Дмитрий годом раньше поступили на математическое отделение, где учился Николай. Лев выбрал другое — восточное.
Для этого ему пришлось овладеть начатками арабского и татарского языков — оба, судя по ведомости, были сданы с блеском. Надо полагать, эти занятия потребовали очень много времени и в Казани, и в Ясной Поляне, где он проводил лето. Казанские два с половиной года, до начала студенчества, остаются в биографии Толстого белым пятном: нет мемуаров, почти нет и его собственных свидетельств. Он не любил вспоминать это время. Мысль о «пустыне отрочества» — одна из самых важных во второй автобиографической повести.
Толстые жили на Поперечно-Казанской улице, на первом этаже и в мезонине дома, смотревшего на речку Казанку, на монастырь и прилегавшие к нему слободы. Весной часто гостили у Юшковых на Волге, в имении Паново. Купались и в большом пруду с островом. Был случай, когда Толстой чуть не утонул в этом пруду, — щеголяя перед барышнями, бросился одетым в воду, но не доплыл до берега. Его вытащили подоспевшие на помощь бабы, убиравшие сено.
На полях рукописи Бирюкова, там, где речь шла о первых годах учебы в Казани и тогдашнем образе жизни, который развращал ум и сердце, Толстой выразил свое несогласие с автором, пояснив: «Напротив, очень благодарен судьбе за то, что первую молодость провел в среде, где можно было смолоду быть молодым». Но больше доверия вызывает другое его суждение об этом времени — из «Исповеди»: «Я всею душой желал быть хорошим; но я был молод, у меня были страсти, а я был один, совершенно один, когда искал хорошего. Всякий раз, когда я пытался выказывать то, что составляло самые задушевные мои желания: то, что я хочу быть нравственно хорошим, я встречал презрение и насмешки; а как только я предавался гадким страстям, меня хвалили и поощряли. Честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, любострастие, гордость, гнев, месть — все это уважалось. Отдаваясь этим страстям, я становился похож на большого, и я чувствовал, что мною довольны».
Разумеется, надо учитывать, что значила для Толстого «Исповедь». Это был акт разрыва с собственным прошлым, в котором очень многое он теперь не мог вспомнить «без ужаса, омерзения и боли сердечной». Толстой строг к себе чрезмерно, до беспощадности. И все-таки правды тут больше, чем в других его словах — когда он уверял биографа, что его казанское отрочество было «праздной, роскошной, но не злой жизнью». Ведь и за тридцать лет до «Исповеди» Толстой, который всюду виден за Николенькой Иртеньевым из автобиографических повестей, называл свое отрочество пустыней.
О гордости, о корыстолюбии известные об этом времени факты позволяют говорить только предположительно, но любострастие на самом деле пробудилось тогда, в Казани. Братья привели его, четырнадцатилетнего, в дом терпимости — ритуал подобных визитов считался в этом кругу чуть ли не обязательным. Потом он рыдал, одеваясь, и, вероятно, над ним, так же как над Анатолием Нехлюдовым в «Записках маркера», посмеивались и поздравляли «с просвещением». Спустя более полувека Толстой вспоминал тот день с ужасом и в разговоре с Хрисанфом Абрикосовым, своим последователем, горько сожалел, что вокруг него, когда он вступил в опасный для мальчика возраст, не было нравственной среды. Вот что он записал в дневнике в 1900 году: «Мне не было внушено никаких нравственных начал — никаких; а кругом меня большие с уверенностью курили, пили, распутничали (в особенности распутничали)… И многое дурное я делал — только из подражания большим».
* * *
Один его современник, вхожий в казанский свет, писал, что среда там была пропитана «сословными предрассудками», более всего заботилась о внешнем лоске и разделяла «свое досужее время между картами, танцами и сплетнями, присоединяя к этим развлечениям поистине беспримерное чревоугодие». Однако Толстому предстояло сдавать на приемных экзаменах Закон Божий, и этот предмет побудил серьезнее, чем прежде, задуматься о том, что для него значит вера. Ошеломляющее заявление Володеньки М. не шло из головы. Вспоминалось, как из окон дома Милютиных в сентябре 1839 года наблюдали закладку храма Христа Спасителя: был парад, присутствовал император, а дети очень беспокоились о знакомой собаке, которая заблудилась среди камней на площадке и пропала. Можно представить себе, какими комментариями сопровождал происходившее радикально мыслящий гимназист.