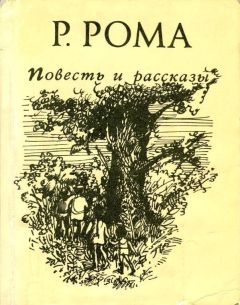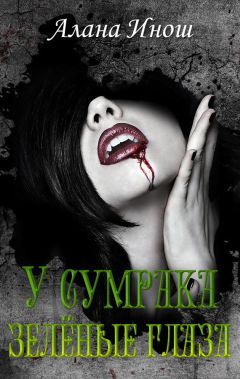Она молчит, но я чувствую, что если мама еще поговорит с ней так же ласково, не будет торопиться, как всегда, то Лена не сможет удержаться в своем замкнутом молчании. «Ну, Лена, Лена, — думаю я, балансируя на чемоданах, — ну, скажи: «Ты хорошая. Я знаю, ты любишь нас. Я была не права. Прости меня».
Но Лена молчит. Она смотрит на маму растроганно, доверчиво и готова заплакать. Мама не видит этого. Она видит горку крошек, собранную ка клеенке. «Мама, посмотри на Лену, — опять думаю я изо всех сил. — Скажи ей еще что-нибудь по-хорошему».
Мама встает и говорит резким голосом, от которого Лена вздрагивает и испуганно замирает:
— Значит, ты, как всегда, не хочешь со мной разговаривать? Вот что, Лена, насильно мил не будешь. Мне трудно с тобой. В доме еще трое младших. Мне нужно думать о них. Если тебе не нравится мой дом — уходи. Но пока ты живешь здесь, изволь относиться ко мне с уважением. Поняла?
«Мама, это несправедливо. Ужасно несправедливо. Лена учится. Она должна кончить университет. Все это ты говоришь, чтобы обидеть. Это не только твой дом, это наш дом».
Мысли бегут у меня в голове, и мне кажется, что под потолком собираются темные, тяжелые тучи…
Сестра молчит, опустив голову. Потом медленно поднимает ресницы и смотрит на маму. В глазах у Лены угрюмый, насмешливый упрек.
Тут подо мной с грохотом рассыпаются чемоданы. Я падаю. Мама бросается ко мне. Лена убегает в свою комнату. В дверь звонят, она не заперта. Я слышу голос кастелянши детдома Синицыной.
— Софья Петровна, — кричит она, — опять шести простынь не хватает! Что же это будет?
— Работать надо как следует, — говорит мама, вытаскивая меня из-за шкафа, — внимательно надо работать, вот и все. Как ты там очутилась?
— Я читала, — отвечаю я, потирая колени.
— Как так «вот и все»? — обиженно повизгивая, вопит кастелянша. Она очень близорука. Брови ее неаккуратно подведены: две бледненькие — свои и повыше — черные, как пиявки, мрачные брови, заползающие на виски. Все четыре поднимаются и прячутся под завитой прозрачный клок волос на лбу. — Как это «вот и все»? Да я все равно как свое берегу, а вы…
— Вот я и думаю, что как свое. А я вам предлагаю, чтобы вы относились к вверенному вам имуществу как к государственному. Вы меня поняли?
— Что вы хотите сказать подобными словами?
— Тина, выйди, — говорит мама.
Я ухожу за шкаф и начинаю собирать по листкам «Графа Монте-Кристо».
— Значит, вы не поняли моих слов? — обращается мама к Синицыной. — Тогда я скажу яснее. Чтобы завтра же были простыни. Если они окажутся на месте сегодня вечером — еще лучше. Я не позволю обкрадывать детей.
— Нехорошо вам, Софья Петровна! — завывает Синицына. — Очень даже некрасиво с вашей стороны на меня такие подозрения…
— Хорошо, тогда я обращусь в милицию, — говорит мама спокойно и собирается уйти из комнаты.
Я не понимаю, как мама может быть такой жестокой. Мне жалко Синицыну. Ее нос блестит, как намазанный жиром. Плечи подняты, глазки растерянно щурятся. Я вспоминаю, что такое же выражение лица было у моего соседа по парте, Бобки Щепоткина, когда он клал мой ножичек себе в карман и встретился со мной глазами. Мне было тогда так стыдно, будто это я украла. Теперь Синицына была чем-то похожа на Бобку — так же растерянно кривила рот. Было непонятно, собирается она улыбнуться или заплакать.
— Погодите, Софья Петровна! — опять визжит Синицына. — Зачем же сразу такие репрессии применять? Поищем, посмотрим среди себя. Может быть, найдутся простыни. Кому они нужные?
Она разводит руками и смотрит по сторонам, как будто в комнате много народу.
— И чтобы это было в последний раз, — говорит мама. — Я уважаю ваш возраст и поэтому не расстаюсь с вами немедленно.
Я закрываю за Синицыной дверь, но кастелянша задерживается на пороге. Она говорит, склонив голову набок и глядя на меня слезливыми треугольными глазками:
— Жалко мне вас. Бедные вы сиротки. Трудно с такой мачехой. Во все проникнет и на все перстом укажет.
— А вы не воруйте, — говорю я ей. — И нечего нас жалеть. Вон вы противная какая, а мне вас ничуть не жалко.
Синицына набирает воздуху, чтобы ахнуть, а я захлопываю дверь…
— За что ты ее любишь? — спросила меня Лена вечером, когда мы ложились спать.
— За то, что она хорошая.
— А почему ты ей врешь?
— Я ей никогда не вру. Я ее обманываю.
— Какая же разница?
— А такая, что врут из трусости, а я всегда сознаюсь, если что-нибудь натворю. И если спросит, откуда я пришла, тоже правду скажу. Но когда она спрашивает, куда я иду, иногда приходится обманывать.
— Почему же приходится?
— Потому что она не пустит. Не могу же я сказать, что иду кататься на коньках на Неву.
— Все равно — врешь или обманываешь. Это одно и то же. И вечно разные истории придумываешь, смешно слушать.
— А я для смеху и придумываю.
Я лезу под одеяло. Лена собирает мои разбросанные вещи и аккуратно складывает их на стул. Потом садится на мою кровать, глядит на меня молча и, как всегда, перебирает косу.
— Я не могу полюбить Софью Петровну, — говорит Лена тихо, почти шепотом, и как будто не мне, — пусть она будет и хорошая. Вы были маленькие, вы ничего не помните про маму, а я все помню. И как они с папой пели на крыльце, и как она ждала меня внизу, под горкой, раскрыв руки, а я бежала вниз, как она ловила меня, и тискала, и целовала. Она много мне рассказывала и читала. А иногда приходила из школы грустная, усталая. Обнимет меня и молчит. И мы сидим тихо, а я ничего не спрашиваю — знаю, что она чем-то расстроена. Вас тогда еще не было… А когда она умерла, мне было пятнадцать лет. Как же я могу ее забыть?..
Лена замолкает, а я смутно вспоминаю серый пуховый платок, добрые темные глаза, как у Лены, такой же высокий лоб, гладкий и блестящий…
Я держала ее за руку и смотрела на мир, который меня окружал. Я смотрела по сторонам. Я видела небо, солнце, деревья. И следила за жуком, ползающим в траве; за кошкой, играющей с мотком шерсти. Я держала за руку свою мать, не глядя на нее. Я не знала, что мне надо запомнить слова ее и улыбку, потому что скоро настанет день, когда я увижу ее в последний раз…
Я помню высокое крыльцо дома, в котором мы жили. Уже неделя, как мама больна. В доме суетливая тишина и незнакомые запахи. Бегают сиделки в белых халатах. Ходят врачи, папины товарищи. Папа ни на кого не смотрит. Бабушка не выходит из маминой комнаты. Нас туда не пускают. Лена целыми днями стоит у двери.
Я сижу на улице у ворот нашего дома, свесив ноги в канаву, поросшую травой. Прохожие оглядываются на наши окна и тихо спрашивают, наклоняясь ко мне: