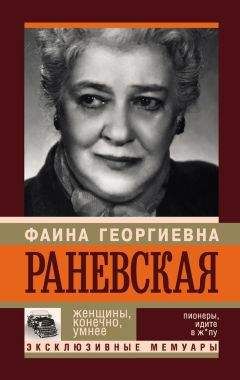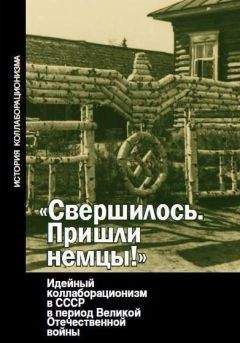В авиационном институте был сильный коллектив студентов. Особенно выделялся Гриша Чернявский[32], который потом стал членом-корреспондентом Академии наук, и возглавлял крупное ракетное бюро в Красноярске. В восемьдесят седьмом или восемьдесят восьмом году мы с ним совершенно неожиданно встретились в Калифорнии. Я приехал туда снимать для телевидения рассказ о работах экономистов Соединенных Штатов и вдруг наткнулся на Гришу, который возглавлял группу советских ракетчиков. Мы с ним тогда сняли эпизоды о том, как наши ракетчики разговаривают со своими американскими коллегами.
В МАИ нас прекрасно учили, хорошо была поставлены математика, механика и другие курсы. Очень любопытен был курс газодинамики — аэродинамики высоких скоростей. Ее читал Сергей Александрович Христианович[33]. Читал он, правда, не слишком систематично, но очень образно. И у меня на всю жизнь остались в памяти картины характеристик разрывных движений, ударных волн. В гидродинамике обычно доминирует классическое эйлеровское течение жидкости, а на его лекциях я понял, как устроены разрывные течения, совершенно противоречащие интуитивному представлению об этом процессе. Потом я узнал, что когда Чаплыгину[34] рассказали о разрывных течениях, он, воспитанный на классических моделях гидродинамики, никак не хотел воспринимать существование таких движений.
Сергей Капица студент МАИ. 1945 г. 1949 г.
В курсе механики мы изучали возмущенное движение маятника, и профессор Свешников сказал, что есть еще один любопытный, но малоизученный вариант такого движения. Если очень быстро колебать подвес маятника, то его движение существенно меняется, но объяснения этому явлению тогда не имелось. Я рассказал задачу о маятнике отцу, который тогда занимался движением электронов в магнитном поле, и он разобрался в этом явлении. Вышла его классическая работа о движении маятника с колеблющимся подвесом. Он подарил мне оттиск этой работы с очень трогательной надписью.
В дипломе у меня указана специальность — самолетостроение. Одним из моих курсовых проектов была разработка катапультируемого сидения самолета, которое выбрасывалось за счет тяги ракетных двигателей. Пилота не выстреливали как из пушки, со страшной ударной нагрузкой на позвоночник, а размещали позади сидения две пороховые ракеты, которые в гораздо более спокойном темпе выносили сидение из кабины. Я разобрался в работе пороховых ракет и спроектировал такое сидение, и сейчас этот подход лежит в основе технологии спасения летчиков в аварийных ситуациях. При расчете таких катапультируемых сидений необходимо знать предельные перегрузки, переносимые человеком. Для этого мы обратились к немецким данным, полученным при опытах на советских военнопленных.
«Я не всегда такой. Это ведь только фотография». 27 апреля 1949 г.
В институте у нас была летная практика на аэродроме в Долгопрудном, где для этих целей предназначался двухместный учебный самолет У2. Помню, как в первый раз инструктор, подняв его в воздух, передал мне управление. Полетали-полетали и, когда вернулись в аэропорт, он сказал: «Вы ведь раньше летали. Я вижу, что вы уже управляли самолетом…» Я ответил, что это в первый раз, но он не поверил: «Нет, так первый раз не летают». Возможно, у меня очень хорошо получилось потому, что я ясно представлял себе физику полета и имел опыт управления яхтами. Позже, я вполне освоился и летал в самых разных местах.
Последний раз это случилось в Англии. Я встречался в Лондоне с ученым из фирмы IBM, связанным с вычислительной техникой. Мне тогда нужно было попасть из Лондона в Кембридж. Он неожиданно предложил: «Давайте полетим на моем самолете. Я лечу в Манчестер, а оттуда отвезу вас в Кембридж». Мы поехали в аэропорт под Лондоном, сели в его маленький самолет, и вдвоем полетели в Манчестер, и уже оттуда отправились в Кембридж, лететь надо было часа полтора. Я рассказал ему, что умею водить самолет, и он предложил мне пилотировать. Я взял штурвал, выдерживал высоту полета, направление, и — чих-чих-чих — так мы и летели. Вдруг я вижу, что подо мной — а мы летели на высоте примерно двух тысяч метров — проходит большой вертолет. Мы расходимся как в море корабли, он ниже в своем эшелоне, а я над ним на большом расстоянии. Все это время мой спутник возился с радио и никак не мог установить связь с Кембриджем. Но это была его забота, а я летел себе, вывел самолет куда надо, и только в последние минуты перед посадкой передал ему управление. Мы сели в Кембридже — и вдруг жуткий скандал — почему ваше радио не отвечало! почему вы так безобразно себя ведете! в общем, вау-вау-вау. Оказалось, что на том самом вертолете, который пересек наш курс, летел Принц Уэльский, и поэтому был объявлен большой аврал. А у нас не только не работало радио, но еще и самолетом управлял иностранец. Но все обошлось хорошо и для меня, и для Принца Уэльского.
Единственное, чего я так никогда и не сделал — я не прыгнул с парашютом, хотя это и входило в нашу программу. Но тогда я как раз ухаживал за Таней, собирался жениться, и она мне прямо сказала, что она не хочет начинать свою брачную жизнь с вдовства. К счастью, прыжки с парашютом не были обязательной частью учебной программы, иначе я бы непременно прыгнул, и кто знает, как бы в этом случае сложилась моя семейная жизнь.
В 1945 году я окончил второй курс института. Летом того же года американцы взорвали первые атомные бомбы. Тогда же начало портиться то настроение приподнятости и надежд, которое наступило после Победы.
После Хиросимы в нашей стране был создан «Специальный комитет», который возглавил Берия. В состав этого комитета был включен и мой отец. Так он попал под начало человека, с которым сработаться был органически не способен. Вскоре началось наступление на очень важное для отца дело — кислородную промышленность, которую он создавал и от которой был, в конце концов, несправедливо отстранен. Самым сильным ударом было снятие с поста директора Института физических проблем. У отца отняли институт, установки, те самые, что при организации института ему прислал из Англии Резерфорд, отняли всех его сотрудников. Лишенный возможности работать, он жил практически безвыездно на даче на Николиной Горе, никогда даже не ночуя в Москве.
Хата — лаборатория П. Л. Капица в хате-лаборатории. 1947 г.
Первые полгода Петр Леонидович был в глубоком расстройстве и тяжело болел. Однако затем он вновь начал работать, работать в любых условиях, последовательно и неуклонно добиваясь всего необходимого. В дачной сторожке он оборудовал себе лабораторию, и в этой хате-лаборатории, как он ее называл, ему помогали лишь мы с братом Андреем, который в это время заканчивал школу и порой причинял всем немало беспокойства.