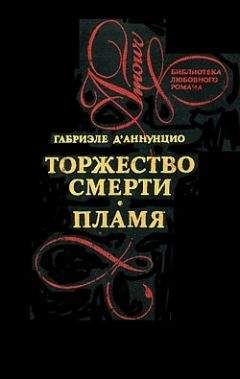Выпрямившись, он достал из кармана часы. Это были золотые часы фирмы «Лонжин». На внутренней стороне крышки были выгравированы монограмма и профиль короля Виктора-Эммануила II. Часы эти достались отцу в наследство от его дяди, которому король презентовал их в благодарность за деликатные услуги, оказанные дядей «прекрасной Рози», морганатической супруге короля, пока та была еще его любовницей.
Часы, как отец сказал мне, показывали тогда десять минут одиннадцатого утра. Остановив взгляд на циферблате, мой отец стоял, ожидая ответа Святой матери-Церкви. Я не знаю, что произвело на епископа большее впечатление: сжатая в кулак ярость человека, который был одним из влиятельных людей провинции, или угроза скандала. Епископ попросил его присесть. Он велел принести очень крепкий кофе, предложил отцу тосканскую сигару из коробки, спрятанной в ящике письменного стола, — словом, попытался любым путем успокоить моего отца. Затем он пообещал сделать «все, что в его силах», и в присутствии отца приказал тому монаху явиться в его кабинет. Отец покинул епископский дворец не совсем уверенным в успехе, но убежденным, что он сделал максимум возможного. Мысль о возвращении на фронт казалась ему почти приятной. Смерть освободила бы его от мучительной ситуации, а конфликт с женой освобождал от страха перед возвращением в окопы.
Во время всего отпуска он не говорил с женой о религии и старался как только возможно насладиться отдыхом бойца. Отстраненное поведение человека, явно готовящегося к смерти, поколебало решение матери о крещении. Перед тем как отправиться на фронт, отец узнал от монахинь, что тому монаху запретили появляться у нас в деревне. Таким образом, крещение было отложено на целых двадцать лет, до той поры, когда вследствие фашистских законов 1938 года и моего отъезда в Палестину мою мать вновь потряс сильнейший религиозный кризис.
В это время другое событие помогло религиозному примирению между моими родителями: отец оказался под угрозой расстрела за измену родине. По возвращении в свою часть он был срочно вызван в генеральный штаб. Там ему сказали, что в личный секретариат короля требовался офицер-шифровальщик. Этот пост предложили отцу при условии, что он владеет машинописью. В течение всей ночи отец безостановочно тренировался на одном из этих странных новых предметов. На следующий день он успешно выдержал экзамен. Таким образом он из грязи окопов был переведен в роскошь венецианской виллы и мог иметь прямой контакт с королем и высшими командирами итальянской армии и армий Антанты. Возможно, что этот период тесного общения с «большими шишками», которого он так жаждал, способствовал его последующему примирению с фашизмом. Результатом этой службы шифровальщиком короля оказалась и ценная коллекция фотографий важных персон того времени. Я унаследовал эту коллекцию и при всякой возможности с восхищением рассматриваю ее, не уставая спрашивать себя, как эти явно умные и порядочные люди могли позволить такой бойне продолжаться в течение четырех лет. Перевод в штаб означал для моего отца и возможность забрать жену из нашего пьемонтского поместья и поселить ее в Удине, ближайшем к линии фронта городе. Он получил все необходимые для этого разрешения и выбрал для нее подходящую квартиру. Январской ночью 1917 года, как раз перед ее приездом, он должен был расшифровать срочное послание царя Николая королю Виктору-Эммануилу, в котором российский император извещал о наступлении русских на немецкие позиции. Ничего решающего — ни в стратегическом, ни в тактическом плане — в этом наступлении не было. Операция закончилась незначительным продвижением в районе Риги, в течение которого русские войска, истощенные войной и уже ослабленные революционной пропагандой, заняли несколько немецких позиций в болотистых местах близ Тиркуля. Но для Антанты, войска которой находились в тот момент под давлением армий противника, это были прекрасные новости. Мой отец расшифровал сообщение и сделал с него четыре копии, как это было положено в отношении особо секретных документов: для короля, для начальника генштаба, для некоего генерала Порро, чей тогдашний пост мне неизвестен, и одну копию для досье, к которому только мой отец имел доступ.
Я слышал эту историю столько раз, что помню каждую ее деталь наизусть. Это произошло четвертого января. В кафе на пьяцца дель Мерканти в Удине собралось порядочно офицеров. Военный корреспондент приблизился к русскому офицеру связи, хлопнул его по спине и заорал: «Наконец-то вы зашевелились!» Офицеры немедленно столпились вокруг корреспондента, тот удалился с загадочной улыбкой, а русский офицер побежал к себе, чтобы сообщить о случившемся. Вечером, когда мой отец трудился над расшифровкой очередного сообщения, к нему явились двое офицеров, сообщили ему, что он арестован, и немедленно доставили его к главнокомандующему, генералу Кадорне[18], для расследования. Тот спросил, кому отец рассказал о содержании шифрованной телеграммы. Отец не понимал, что имеет в виду генерал, но в данной ситуации невозможно было представить, на кого еще могло пасть подозрение. Только четыре человека знали о содержании телеграммы, и никто не мог подозревать ни короля, ни двух генералов, поэтому подозрение, естественно, падало на обладателя четвертой копии, младшего офицера-дешифровщика. По стечению обстоятельств офицер военной полиции, одетый в штатское, находился в кафе и слышал, что сказал корреспондент. Он допросил его и выяснил, что тот вошел в кабинет генерала Порро, когда там никого не было. Бросив взгляд на бумаги, лежавшие на столе, он прочел царскую телеграмму и не удержался от того, чтобы пустить пыль в глаза. Тем не менее прошло более двух недель, прежде чем удалось это выяснить, и все это время мой отец находился под домашним арестом. Был сформирован военный трибунал, и угроза расстрела была реальной. Серьезными неприятностями грозил и поползший слух, что еврейский офицер совершил преступление. Евреи, до которых этот слух дошел (а до многих членов моей семьи, носивших в то время военную форму, он дошел моментально), решили, что готовится новое дело Дрейфуса. Мой дядя, брат отца, занимавший важный пост в генштабе, пришел навестить отца в сопровождении одного из ведущих адвокатов Италии.
Между тем мать прибыла в город, ничего не зная о случившемся, и была ошеломлена тем, что представлялось настоящей семейной — а возможно, и национальной — трагедией. Она слишком хорошо знала характер своего мужа, чтобы усомниться в его полной невиновности. Для нее было совершенно естественным в этот критический момент прийти ему на помощь, оказать моральную поддержку. Кроме того, волнения, связанные с этим происшествием, отвлекли ее внимание от религиозных проблем. Моя мать, следуя непонятной логике, связывала происходящее со своей попыткой крещения и чувствовала себя виновной в том, что случилось с ее мужем. Затем внезапно все обвинения с отца были сняты, ему принесли официальные извинения, и к нему вернулось доверие короля. Хеппи-энд был слишком похож на чудо, чтобы мои родители не стали рассматривать его как знак свыше. И здесь, в сонном провинциальном Удине, где много лет спустя я отпраздную бар мицву, моя мать пообещала отцу оставить свою мысль о перемене веры. Это обязательство она строго выполняла в течение двадцати с лишним лет, чему я и обязан фактом своего рождения и еврейского воспитания. Тем не менее, когда в 1938 году вышли фашистские антиеврейские законы[19] и мир вокруг моих родителей рухнул, мать снова оказалась в изоляции, неподготовленная к таким катаклизмам. Мой отъезд в Палестину, страну, которую она не могла даже найти на карте, послужил катализатором ее религиозного кризиса. Вдребезги разбился и мир отца, мир еврея, который верно служил Савойской династии, был фашистом и убежденным итальянским националистом. Он и сам чувствовал себя не очень уютно с теми немногими еврейскими обрядами, которые он до сих пор соблюдал. Не мог он объяснить себе и внезапное землетрясение, так жестоко потрясшее его вместе со всем европейским еврейством. Единственное, на что он мог рассчитывать, — это чувства любимой женщины. Он объяснил мне, что, если католическая вера могла успокоить ее в разгар такой катастрофы, у него не было ни права, ни желания противиться ее решению.