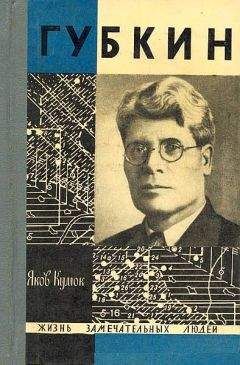Иван Михайлович пишет безлико: «остальные члены семьи».
Он не жаловался. Кому он мог пожаловаться? Он стиснул кулаки и сказал всем: «Нет!» Следует предположить, что он не умел толком объяснить, почему он хочет учиться, почему он хочет этого больше всего на свете; потом он часто писал об этом в письмах; всю жизнь; даже в старческом возрасте. Мало того. Письма дело интимное, они располагают к откровенности, но вот предвыборная речь, произнесенная в 1937 году и опубликованная во всех центральных газетах под заголовком «Доверие народа — высшая награда». Речь официальная, можно сказать, официозная — и чуть ли не половину ее Иван Михайлович посвящает обстоятельствам учебы своей! Почти скороговоркой рассказывает об открытии Курской магнитной аномалии и подробно о двоюродном брате Алеше Наумове, очень способном мальчике, из-за бедности вынужденном бросить школу. Как въелась обида-то! Алешка сдался, за что, конечно, винить его нельзя. Ваня учился не робеть одиночества, не робеть хулы — в самом начале долгого пути к себе.
Это пригодилось, кстати, и при открытии Курской магнитной аномалии.
Покончив с некоторыми частностями и эмоциями, предшествовавшими поступлению нашего героя в новое учебное заведение, перенесемся вместе с ним в Киржачскую учительскую семинарию. В видах экономии места предоставляем самому читателю вообразить впечатление, произведенное на угнетенного и преисполненного наилучших надежд юношу первой в жизни поездкой по железной дороге (она тогда доходила до г. Покрова; оттуда до Киржача — верст тридцать — приходилось добираться на попутных мужичьих телегах).
Смело можем опустить также и описание захолустного городка Киржача, его немощеных улиц и двух мест постоянного массового скопления киржачан: текстильной фабрики и кабака. Семинаристы в городе почти не бывали, они жили в удалении от него на два с половиной километра (обветшавшие семинарские корпуса до сих пор стоят, чего, к сожалению, не скажешь о великолепном — эпитет самого Губкина! — сосновом боре вокруг: он сильно и необратимо поредел).
Нет, что ни говорите, Ивану Михайловичу везло! До двадцатичетырехлетнего возраста он не знавал, счастливчик, ни бульканья паровых станков, шипенья ременных передач, ни канцерогенных выдыханий заводских труб, ни сладкого стрекота городских канцелярий, он жил, что называется, на лоне природы! Он дышал острейшим воздухом Мещеры, любовался нежнейшими пейзажами равнины, способными привить впечатлительной юношеской душе, а именно такой и называл свою душу Иван Михайлович, философическую стойкость и беспримерное терпение при неудачах. Он окунал тело свое, в то время жадно набиравшее сил и росту, в свежайшие водные струи, еще ни разу не замутненные семицветной нефтяной пленкой.
Вот и сейчас… Киржач-река — одна ведь из красивейших рек на Московской возвышенности (левый приток Клязьмы. Современные туристы доезжают до станции Орехово, откуда до устья восемь километров). Берега высокие, обрывистые, местами напоминают таежные; свисают ветки деревьев; затонувшие стволы образуют запруды… Дубовые рощи, пойменные луга с редким кустарником и пляжи… Глубокие овраги, заросшие бузиной, ивняком, шиповником…
К Киржач-реке ниспадал семинарский двор, окруженный упомянутым великолепным, ныне почти исчезнувшим сосновым бором, от которого отделялся он высоким частоколом — с неплохими звукоизоляционными свойствами: в семинарии должно было быть тихо. Семинария должна была, если угодно, олицетворять тишину, хранить частицу великой имперской тишины, консервировать ее в душах воспитанников, дабы, возвратясь в народ, они передавали ему, внушали благоговейное отношение к тишине, порядку. Время не имело права просачиваться сквозь высокий забор; программа по литературе обрывалась на Пушкине; Тургенев был запрещен. Да и Пушкин, обкорнанный и урезанный, выглядел вполне любителем тишины и дворцовых залов.
(В реконструкции семинарского быта много помог нам академик Иван Фомич Свадковский, крупнейший педагог, сам в прошлом выпускник семинарии. Работы Свадковского широко известны специалистам; переводятся за рубежом; а одну его книгу прочли миллионы советских людей; правильнее оказать, не только прочли, а научились по ней читать. Это букварь. Их уж немного в живых осталось, выпускников учительских семинарий, архаического, странноватого заведения… Выражаем Ивану Фомичу живейшую благодарность.)
В гидрогеологии классическим считается пример набухания пласта с высокой способностью поглощения — от маломощного водного горизонта. Слабый родничок, «подпитывающий» пласт, может вытеснить из него нефть. Послушаем Губкина: «Поступил я в семинарию тихим, скромным, религиозным юношей… Встречи с новыми людьми, с новыми понятиями… содействовали тому, что я усвоил идеи, противоположные тем, которые во мне воспитывали». Заявление это, кажется, противоречит нашему представлению о семинарии? Но, видно, была малюсенькая течь в многопудовом заборе, а крестьянские дети, собравшиеся, чтобы научиться учить крестьянских детей, обладали, как тот пласт, — да простится нам сравнение с неодушевленным предметом — высокой степенью насыщения.
«Рядом, в ста километрах от нас, была Москва, и то новое, что было в общественной жизни, сведения о политических событиях просачивались в семинарию. Мы жили не только в замкнутом кругу своих интересов, но и интересами более широкими».
Рядом Москва… А в заборе не только метафорическая течь, но и реальная и тщательно замаскированная дыра. Через нее убегали семинаристы в лес после обеда (после обеда следовало единственное двухчасовое «окно» в строгом распорядке дня). «За это нас наказывали, сбавляли отметки по поведению. На этой почве у нас происходило много кронфлинтов». Убегал и Ванюша…
Возвращаться необходимо было в шесть сорок пять и в семь сидеть в классе — входил наставник, зажигал коптилки, прикрепленные к партам. «Ну-с, дети, что задали вам днем?» — и садился на стул дремать. Можно было разбудить его, проконсультироваться, но редко прибегали к этому ученики. Коптилка едва слышно шипела, пузырек пламени мелко прогибался, чадил, с потолка и из окон смотрела, наваливалась темнота. Темнота за окнами притягивала и страшила. Благословенные часы, никогда уж потом так сладко не читалось! Ванюша обкладывал тетрадками книжку, чтобы наставник, если проснется, не заметил, и… Майн Рид… Всадник без головы… Жюль Верн… Капитан Гаттерас… На втором курсе учитель Бедринский стал подсовывать запретное. Гончаров: «Обломов», «Обрыв», Толстой: «Анна Каренина», «Война и мир», Достоевский, Лесков, Боборыкин… Не дай бог попасться с такими книгами, ибо учил еще в свое время министр просвещения Шишков: «Лжемудрыми умствованиями, ветротленными мечтаниями, пухлою гордостью и пагубным самолюбием сочинители ум изощряют… Наставлять земледельческого сына в риторике было бы приготовлять его быть худым и бесполезным или еще вредным гражданином». А директор семинарии Никанор Дмитриевич (фамилию его, между прочим, разузнать не удалось, а имя-отчество сохранилось в записках Губкина, хотя и недобрым словом помянутое) — Никанор Дмитриевич портить земледельческих сынов не хотел. Ибо сказано в приказе, чтобы каждый, «не быв ниже своего состояния, также не стремился через меру возвыситься над тем, в коем ему суждено оставаться». Потому что крестьянские дети «прилежнейшие по успехам приучаются к роду жизни, к образу мысли и понятиям, не соответствующим их состоянию; неизбежные тягости иного для них становятся несносны и оттого они в унынии предаются пагубным мечтаниям и низким страстям».