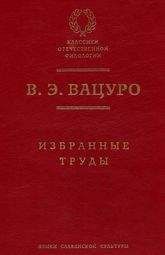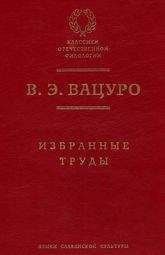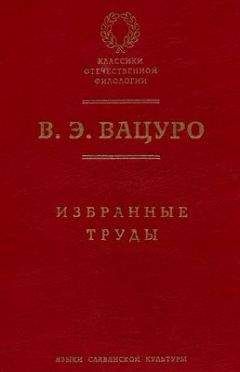Любопытно вместе с тем, что у Пушкина и Мицкевича «зимние мотивы» Овидия получают диаметрально противоположную художественную интерпретацию. Пушкин как бы оспаривает их, становясь на иную точку зрения. Южная зима у него увидена глазами северянина; для Овидия это — суровый север, где вынужден жить он, человек юга. В послании «К Овидию» подчеркнута субъективность пейзажа «Скорбных элегий»; в «Цыганах» эта субъективность становится характерологической чертой Овидия («чужого человека»), а разница «точек зрения» художественно реализована в рассказе цыгана об Овидии[100]. Мицкевич гиперболизирует исходную картину зимы; из той же субъективности вырастает символический пейзажный образ. Как и в случае с Батюшковым, единая исходная тема продуцирует два противостоящих друг другу варианта разработки. Здесь это, конечно, не «полемика» в точном смысле слова; это разность художественных и концептуальных установок, приводящая и к различным результатам.
Между тем образ замерзшей воды, поразивший воображение Овидия резким контрастом между обычным агрегатным состоянием аморфного, подвижного, текучего вещества и новым состоянием, когда внешняя недобрая сила лишила его привычных свойств, движения и как бы самой жизни, продолжал варьироваться в художественном сознании автора «Дзядов». Он уходил своими истоками еще в метафорический язык «Крымских сонетов», где впервые обозначился «классический оксюморон» «сухой океан»; в специальном исследовании В. Кубацкий проследил движение этой метафоры в мировой поэзии начиная с античности[101]. В сонете же «Вид гор из степей Козлова» мы находим и первоначальную кристаллизацию образа «оледенелого моря» («morze lodu») — того самого, который с новым художественным смыслом появился в вариантах «Дороги в Россию».
Нет сомнения, что и в этом случае в поле зрения Мицкевича была целая традиция поэтического словоупотребления, включавшая и русские образцы. «Замерзшее море» (в модификации: море с волнами, что придает образу новый оттенок выразительности) есть в швейцарских сценах «Писем русского путешественника» Н. М. Карамзина; описывая ледники Гриндельвальда, Карамзин замечает: «Не знаю, кто первый уподобил сии ледники бурному морю, которого валы от внезапного мороза в один миг превратились в лед; но могу сказать, что это сравнение прекрасно и справедливо и что сей путешественник или писатель имел пиитическое воображение»[102]. «Письма русского путешественника» Мицкевич знал, но задержалось ли его внимание на этом месте — неизвестно.
Существовал, впрочем, еще одни литературный аналог этой сцены, который мог быть известен Мицкевичу, — «Ухабы. Обозы» из «Зимних карикатур» Вяземского. Стихи эти были напечатаны в «Деннице» М. А. Максимовича в 1831 г., однако написаны они зимой 1827–1828 гг., во время поездки Вяземского по Пензенской губернии. Сразу же после приезда в Москву Вяземский возобновил общение с Мицкевичем, которое продолжилось и в Петербурге; в мае — июне 1828 г. оно достигает наибольшей интенсивности. Вполне вероятно, что Вяземский рассказал ему о впечатлениях своего путешествия в мороз и метель по занесенной снегом степи; они отразились на страницах его записной книжки и в стихах, где есть точки соприкосновения с «Дорогой в Россию»:
День светит; вдруг не видно зги,
Вдруг ветер налетел размахом,
Степь поднялася мокрым прахом
И завивается в круги.
(«Метель»)
Это довольно близко к описанию снежного моря, поднятого вихрем. В другом месте — в «Ухабах» — находим развитие карамзинского образа:
Какой враждебный дух, дух зла, дух разрушенья,
Какой свирепый ураган
Стоячей качкою, волнами без движенья
Изрыл сей снежный океан?
Далее возникает образ, навеянный «Крымскими сонетами» Мицкевича:
Кибитка-ладия шатается, ныряет,
То вглубь ударится со скользкой крутизны,
То дыбом на хребет замерзнувшей волны
Ее насильственно кидает
(«Ухабы, Обозы»)[103]
Заметим, что Вяземский дал в свое время прозаический перевод «Аккерманских степей» с этим образом: «Вплывая на простор сухого океана, колесница ныряет в зелени и, как лодка, зыблется среди шумящих нив…».
Но, как мы видели, и мотив ледяных волн также присутствовал у Мицкевича: «Не Алла ли поднял оледенелое море»[104].
У Вяземского произошло переключение в иную образную сферу: метафоры южного пейзажа стали характеристикой севера. Если наше предположение, что Мицкевич знал эти стихи, верно, то он получил обратно то, что Вяземский взял от него, — но вместе получил и художественный импульс для новой картины.
В «Отрывке из III части „Дзядов“» мы находим интересующий нас образ еще раз и в новой, наиболее экспрессивной модификации — уже не моря, но водопада, схваченного льдом. Он оказывается непосредственно связан с другим, уже известным нам образом — взнесенного над бездной коня.
Od wieku stoi, skacze, lecz nie spada,
Iako lecąca z granitów kaskada,
Gdy ścieta mrozem nad przepaścia zwiśnie —
Lecz skoro słońce swobody zablyśnie
I wiatr zachodni ogrzeje te państwa,
I cóż się stanie z kaskadą tyraństwa?
(III, 63–68)
(«Вечно стоит <конь>, скачет, но не падает. Подобно летящему с гранитов водопаду, Который, скованный морозом, повис над пропастью — Но скоро заблестит солнце свободы, И западный ветер согреет те государства, — и что станется тогда с водопадом тирании?»).
Ю. Кляйнер высказал предположение, что это уподобление может восходить к «картинке» в «Полярной звезде на 1824 год» — иллюстрации к «Водопаду» Державина, где изображен рыцарь на фоне водяного каскада[105]. Но ни «Водопад», ни иллюстрация не содержат самого существенного — изображения водопада, скованного льдом. В. Ледницкий склонен был усматривать источник образа в стихах Тютчева «14-ое декабря 1825», где говорится о вековых льдах, которые не смогла растопить «скудная» кровь жертв[106], но знакомство Мицкевича с этими стихами проблематично — и, кроме всего прочего, в них есть «лед», но нет «водопада».
Между тем существует стихотворение, в котором есть как раз искомый нами образ, организующий все художественное целое. Это «Надпись» Баратынского, адресатом которой долгое время без больших оснований считали Грибоедова:
Взгляни на лик холодный сей,
Взгляни: в нем жизни нет;
Но как на нем былых страстей
Еще заметен след!
Так ярый ток, оледенев,
Над бездною висит,
Утратив прежний грозный рев,
Храня движенья вид[107].
Строчка Мицкевича «…kaskada, Gdy ścięta mrozem nad przepaścią zwiśnie» производит впечатление прямого перевода строк 5–6.