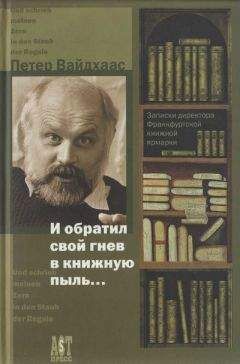Французский экзистенциализм поражал умы дезориентированной и подобно мне мечущейся в потемках европейской молодежи. Проза Жан Поля Сартра подтолкнула меня к началу истинного пути. И наконец, Камю. «Падение» Альбера Камю, в прекрасном фиолетовом матерчатом переплете, изданное Книжным объединением Дармштадта: «Разве это не достойное занятие — уподобить свою жизнь обществу и разве не нужно, чтобы для осуществления этой цели общество уподобилось мне? Запугивание, доведение до бесчестия и полиция — вот святыни этих взаимоотношений».
Больше меня ничто не сдерживало, я перестал колебаться. И читал все подряд из современных ненемецких авторов — все, что попадало в руки. Произведения Камю и Сартра, затем Анри Монтерлана и под конец «Цветы зла» Шарля Бодлера, за французами — Фолкнера, Торнтона Уайлдера («Мост короля Людовика Святого»), Хемингуэя, Дос Пассоса, Казандзакиса, а также «Голод» Гамсуна, Джона Стейнбека, «Кожу» Малапарте, «Улисса» Джеймса Джойса и сборник его рассказов «Дублинцы», Д. Г. Лоренса, Генри Миллера, У. Сомерсета Моэма, Уильяма Сарояна и т. д., пока в конце концов не остановился на одном авторе, с которым не мог потом расстаться долгие годы: Франц Кафка.
Франц Кафка сумел выразить чувство времени, испытываемое тогда многими из нас: быть виноватым (идентично: быть немцем!), толком не понимая почему. Быть обвиненным, не зная кем. Жить в иллюзорном мире, зная, что он насквозь лжив и полон фальши. Я по несколько раз прочитал все книги Кафки, а такие вещи, как «Приговор», «Превращение» или «Голодарь», бесчисленное количество раз. Анализируя текст, я пытался понять неписаные законы той пронзительности, которые свойственны этим рассказам. Я месяцами жил, уйдя в дневники Кафки.
Рассказ «на галерке», состоящий всего из двух фраз, сделал для меня доступным ход мыслей Кафки и объяснил, почему я, и не только я, полностью погрузился сейчас в этого писателя.
Первое предложение рассказа расплывчато начинается с союза сослагательного наклонения «если»: если бы это было так, если бы мы могли познать реальную действительность, «тогда, возможно, юный зритель кинулся бы по длинной лестнице с галерки вниз, миновал бы все ярусы, выбежал в партер и крикнул: остановитесь!..» Вторая фраза олицетворяет собой чувственно познаваемый иллюзорный мир, в котором мы живем — все ненастоящее, лишь красивая маска, — и поэтому закономерно начинается словами: «Но так как все это не так», а заканчивается жесткой констатацией — «вот как оно так», и тогда зритель на галерке кладет свое отчаявшееся лицо на барьер и «плачет… сам того не ведая».
В те дни я не вылезал из городской библиотеки Мюльхайма-на-Руре. Пожилая библиотекарша из-за своего маленького роста ходила туда-сюда по низкой деревянной скамеечке перед огромным каталогом книг и выискивала для меня, ловко перебирая карточки руками, все новые и новые книжные «откровения». Путешествие в мире книг, в котором немцам долгое время было отказано, даже учителям и то был перекрыт нормальный доступ к литературе (отчего в школах нас все время пичкали патетическим Грильпарцером!), полностью соответствовало моим бродяжническим настроениям. Я испытывал неодолимую потребность постоянно распахивать наглухо закрытые окна, познавать новые просторы и проживать другую, незнакомую жизнь.
Но и то чувство вины, которое глухо давило на меня и которое я подспудно ощущал как неотъемлемую часть своего существования, тоже играло роль своеобразного моторчика, заставляя меня лихорадочно искать какой-то выход. В первые послевоенные годы нас целыми классами все время водили на просмотры фильмов, в которых показывали чудовищные сцены массового уничтожения людей в концентрационных лагерях: горы обуви, кучи очков, транспортировку безжизненных тел, полностью утративших человеческий облик. Мы сидели притихшие, в первую очередь потому, что не знали, а от нас-то чего хотят, показывая нам эти кадры.
Во мне рос глубокий страх перед окружающими меня людьми, среди которых я жил: не совершили ли все эти преступления те самые люди, с которыми я ежедневно ездил в трамвае? Карла Эйхмана, до 1933 года крупного представителя нефтяного бизнеса, на суд мировой общественности вытащили израильтяне и разоблачили как жалкую, мелкую и заурядную личность. А вдруг здесь каждый второй — Эйхман? И не были ли мы все вместе сплошь одни Эйхманы? И почему Ганс Глобке, пропагандист нацистского закона о «защите чистоты арийской крови», все еще остается могущественным статс-секретарем в федеральной канцелярии Конрада Аденауэра, а Теодор Оберлэндер, командир батальонов «Нахтигаль» («Соловей» — что за название для такого батальона!) и «Бергман» («Дух гор»), отвечавших за массовое уничтожение русского, польского и еврейского гражданского населения, — министром по делам изгнанных этого «нашего», якобы очищенного от нацистской скверны правительства? Изменилось ли вообще хоть что-то? И можем ли мы, немцы, в принципе измениться? Не вытекали ли все эти апокалипсические действия последовательно из нашей культуры? Не были ли мы сами членами этой немыслимой семейки, носителями и продолжателями этой уродливой культуры?
Ежедневно приходя в библиотеку, я обнаружил однажды на стенде книгу Герхарда Шёнбернера «Желтая звезда». Я подавил в себе защитную реакцию страха перед теми картинами ужаса, которые частенько мучили меня по ночам, и взял книгу домой. Я держал ее у себя неделями, нарушая все сроки возврата книги и игнорируя напоминания об этом, в итоге я не мог больше показываться в библиотеке, чтобы взять другие книги. Я снова и снова, день изо дня, листал ее, изучая не поддающиеся человеческому разуму картины. Я хотел понять, что же там происходило. И никак не мог этого сделать. Люди, которых сгоняли в одно место большей частью безликие типы в униформах, выглядели совершенно нормально, как любой из тех, кто жил со мной по соседству, — заводской рабочий, торговец овощами, служащий, дети, матери, добродушные бабушки. Вероятно, не подозревая еще об ожидающей их трагической участи, они без всякого сопротивления позволяли увозить себя к местам уничтожения.
Все это было заранее цинично рассчитано и самым наилучшим образом продумано и организовано, как четко объяснялось в этой книге, где была опубликована телеграмма Главного управления по безопасности рейха, направленная шефам полиции и службы безопасности в Гааге, Париже, Брюсселе и Меце 29 апреля 1943 года:
«Лагерь Аушвиц[5] на основании нижеизложенных причин вновь убедительно просит никоим образом не делать подлежащим эвакуации евреям перед их транспортировкой никаких вызывающих беспокойство сообщений о способе их дальнейшего применения (!)… Аушвиц, учитывая важность успешного и скорейшего проведения намеченных работ(!), придает большое значение нормальной приемке транспорта и его последующей сортировке для максимально беспрепятственной обработки (!)».