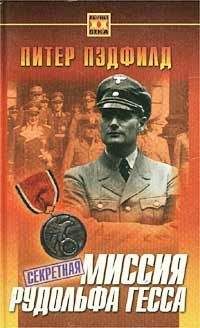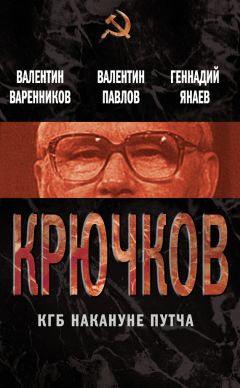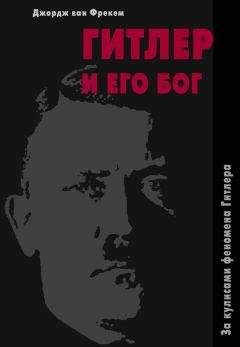Сорок лет спустя, в понедельник утром, 17 августа 1987 года, своего последнего дня жизни, он проснулся в другой камере. В ней он провел почти восемнадцать лет. Туда он был переведен после пребывания в соседнем британском военном госпитале, куда попал в конце 1969 года с раком двенадцатиперстной кишки. Подлечив, его поместили в сдвоенную камеру, служившую когда-то семи заключенным часовней. Спал он с тех пор на медицинской кровати с регулируемыми по высоте головным и ножным концами. Справа от нее стояла больничная тумбочка, слева — стол с электрическим чайником, кружкой и другими принадлежностями для чая и кофе, а также настольная лампа. Над ним на стене висела карта лунной поверхности, присланная НАСА из Техаса. Он стал самодеятельным экспертом по изучению космоса. Дверь его больше не запирали, чтобы в случае острой необходимости он имел возможность беспрепятственно выйти в туалет. Теперь, вместо шести, его будили в семь часов утра, и то скорее формально.
Его волосы стали совершенно седыми, а спина, пораженная артритом, сгорбилась и не гнулась; влево его голова не поворачивалась, а вправо — только частично. Запрокинуть голову назад и не потерять равновесия он тоже не мог; левая его рука почти не работала. У него были проблемы с сердцем и кровообращением, по поводу чего он принимал многочисленные лекарства. Ему было девяносто три года.
Полжизни, без нескольких месяцев, он провел в заточении. Со дня его полета в Шотландию прошло сорок шесть лет, 16901 день. В Шпандау он пробыл 14641 день, из которых 7626 он был единственным ее заключенным. Охрана тюрьмы по-прежнему осуществлялась четырьмя державами-победительницами, каждый месяц сменявшимися в карауле. Обо всех происшествиях, существенных и несущественных, начальник караула производил запись в особую книгу, требования к заполнению которой за прошедшие годы оставались почти такими, как в те дни, когда были составлены, и в памяти еще были свежи воспоминания об ужасах свидетельских показаний Нюрнбергского процесса. Был ли кто на свете, кто провел в заточении больший срок, неизвестно, западные судьи устанавливать рекорд не собирались — советский судья настаивал на смертной казни. В любом случае срок его заключения превосходил все нормы «пожизненного» заключения в западных государствах. Самой изощренной пыткой в его наказании была надежда на освобождение.
В Нюрнберге, узнав о приговоре суда, он нашел выход в спасительной фантазии, состоявшей в надежде на то, что западные державы найдут возможность освободить его и поставить во главе новой Германии, чтобы противостоять «большевизации» Европы, которую он предсказал, находясь в Британии; теперь опасность стала реальной, Черчилль заговорил о "Железном занавесе", разделившем Европу. Он так глубоко уверовал в свою фантазию, что уговорил власти в Нюрнберге предоставить ему пишущую машинку и месяцы до перевода в Шпандау потратил на подготовку сообщений для печати с перечислением назначенных им министров и поставленных перед народом задач; он даже составил первую свою речь, обращенную к новому Рейхстагу. Начиналась она с панегирика в память усопших, "в первую очередь, одного среди мертвых; основателя и вождя Национал-социалистического Рейха, Адольфа Гитлера". Фюрер, сказал он, взял на себя труд покончить с собой, так как не мог примириться с непочтительным обращением. "Он не мог согласиться с правомочием судей, не имевших права судить его…"
Государство, руководителем которого видел себя Гесс, едва ли отличалось от фюрерского государства Гитлера, но без грубого попрания человеческих норм. Евреи, к примеру, "чтобы спастись от гнева немецкого народа", могли попроситься в специальные лагеря, где их ждала защита и "гуманные по возможности" условия. Не следует думать, что эта программа в такой же мере свидетельствовала о его умопомрачении, как приступы амнезии в прошлом, потому что Дениц тоже воображал, что будет приглашен возглавить новое германское государство.
Тюрьма Шпандау на время вернула Гесса, Деница и других к мрачной реальности. Обозначенные номерами и обреченные на анонимность, они не могли общаться друг с другом ни в короткие минуты пребывания в душевых, ни во время мимолетных встреч в коридорах камерного блока, ни во время тридцатиминутных прогулок вокруг старой липы в тюремном дворе, проходивших под неусыпным наблюдением охраны. Держа руки за спинами, они громко цокали по твердому грунту толстыми деревянными подошвами тюремной обуви. В первые месяцы охранники держались настороженно, перенося на семерку ненависть, порожденную нацистским режимом. Общение с заключенными проходило на уровне приказов. Пищу узники ели в одиночестве, в своих камерах прямо с жестяных подносов. Чтобы исключить возможность самоубийства, ножей и вилок не подавали. Еда была такой малокалорийной, что заключенные теряли вес, вскоре тюремная одежда болталась на их костлявых фигурах, как на вешалках. Альберт Шпеер ловил себя на том, что ползает по полу камеры в поисках упавших крошек хлеба. Впервые в жизни он испытывал недостаток еды. "Постоянный голод, слабость", — записал он в дневнике, который тайно вел на туалетной бумаге и передавал на волю.
Они сами убирали свои камеры и стирали тоже сами — вручную, в железных котлах — исподнее, носки и постельное белье. Ночной сон их регулярно прерывался тюремщиками, включавшими свет с целью «проверки». Русская охрана считала необходимым проделывать это каждые четверть часа, о чем свидетельствует рапорт о "моральной пытке" заключенных, составленный в 1950 году французским тюремным капелланом.
Письма домой разрешалось им писать раз в месяц, и раз в месяц — получать весточку с воли. Письма подвергались цензуре, не дозволялось упоминать о Третьем Рейхе и его политических деятелях, о Нюрнберге и политике того времени. От скуки и полного одиночества спасали книги; они также не обходились без цензуры, дабы не содержали запретных тем. В основу тюремной коллекции легла библиотека, собранная Гессом в Великобритании. Редер стал страстным ее читателем.
Другим спасением был сад. В момент их поступления в Шпандау он состоял из беспорядочных зарослей орешника и кустов сирени, утопавших в высоком, по пояс, бурьяне. В первое лето они перекопали землю и посеяли овощи. Фон Нейрат, единственный, кто разбирался в садоводстве, получил звучный титул "Главный директор по садостроительству"; Альберт Шпеер свой талант архитектора использовал, рисуя планы облагораживания участка. "Как мы потели!" — писал Гесс домой, рассказывая о своем труде. Сомнительно, правда, чтобы он говорил это о себе, так как работать он отказывался. Для отказа он находил две причины: во-первых, они не были приговорены к каторжным работам, во-вторых, Нюрнбергский Трибунал он в любом случае расценивал как неполномочный. Зимой, когда работы в саду прекращались, они клеили из бумаги конверты. Гесс в это время года выходить из камеры отказывался. Когда приходили охранники, он стонал и причитал, притворяясь, что страдает от желудочных болей. То же происходило и в саду. "Уклонист Гесс, как всегда, сидел на скамейке", — писал Шпеер на втором году их заключения. В то время как другие прилежно трудились (возможно, в надежде на смягчение приговора), зарекомендовав себя образцовыми заключенными, Гесс уклонялся от сотрудничества с самого начала. Временами он отказывался вставать с постели и оставался лежать, жалуясь на недомогание, до тех пор, пока охранники не сбрасывали его на пол. Однажды, записал Шпеер, когда шел дождь, он отказался выйти на тридцати минутную прогулку и остался в постели, снова причитая.