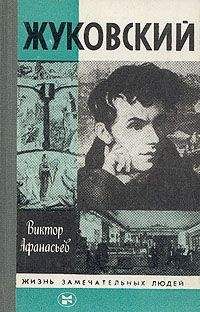29 июня Жуковский сообщает Авдотье Петровне Елагиной свой маршрут:
14 июля ст. стиля — выезд из Бадена.
15 — 20 июля — переезд из Франкфурта в Дрезден.
21 июля — 2 августа — пребывание в Дрездене.
3 — 12 августа — переезд из Дрездена в Дерпт.
13 августа — пребывание в Дерпте.
14 — 15 августа — переезд в Петербург (едет один Жуковский, семья остается в Дерпте).
16 — 17 августа — пребывание в Петербурге.
18 — 20 августа — переезд в Москву.
21 августа — прибытие в Москву.
Жуковский просит всех родных собраться к этому времени в Москву для свидания с ним. Однако за два дня до отъезда из Бадена Жуковский заболел — у него сильно воспалился глаз, и доктор Гугерт рекомендовал ему до выздоровления не выходить из темной комнаты. «Итак, — пишет он Елагиной, — мы увидимся, душа моя, не прежде, как весною будущего 1852 года». С этого времени Елагиной пришлось писать Жуковскому письма по-французски, чтобы жена могла ему их прочитывать. «Для меня мучение писать душе моей на языке красивых фраз, — признавалась она. — Может быть это потому, что я привыкла с Жуковским к языку, каждое слово которого напоминает мне его стихи, составлявшие всю мою молодость, мое счастье и самое дорогое мое занятие».
Положение сложилось самое отчаянное. Как тут не приуныть... Но душа Жуковского не хотела поддаваться ни возрасту, ни тяжким обстоятельствам. Плетнев лучше многих понимал Жуковского, но и он читал письмо его от 1 сентября с искренним изумлением. «Я человек изобретательный! — писал Жуковский уже после восьми недель заточения в собственном кабинете. — Вот, например, я давно уже приготовил машинку для писания на случай угрожающей мне слепоты — эта машинка пригодилась мне полуслепому: могу писать с закрытыми глазами; правда, написанное мне трудно самому читать; в этом мне поможет мой камердинер. И странное дело! почти через два дни после начала моей болезни загомозилась во мне поэзия и я принялся за поэму, которой первые стихи мною были написаны тому десять лет, которой идея лежала с тех пор в душе неразвита и которой создание я отлагал до возвращения на родину и до спокойного времени оседлой семейной жизни. Я полагал, что не могу приступить к делу, не приготовив многого чтением, — вдруг дело само собою началось, все льется изнутри; обстоятельства свели около меня людей, которые читают мне то, что нужно и чего сам читать не могу, именно в то время, когда оно мне нужно для хода вперед: что напишу с закрытыми глазами, то мне читает вслух мой камердинер и поправляет по моему указанию: в связи же читать не могу без него; таким образом леплю поэтическую мозаику и сам еще не знаю, каково то, что до сих пор слеплено ощупью, — кажется, однако, живо и тепло... Думаю, что уже около половины (до 800 стихов) конечно: если напишется так, как думается, то это будет моя лучшая, высокая, лебединая песнь. Потом, если Бог позволит кончить ее, примусь за другое дело, за «Илиаду». У меня уже есть точно такой немецкий перевод, с какого я перевел «Одиссею»; и я уже и из «Илиады» перевел две песни... Для «Илиады» же найду немецкого лектора: он будет мне читать стих за стихом: я буду переводить и писать с закрытыми глазами, а мой камердинер будет мне читать перевод, поправлять его и переписывать. И дело пойдет как по маслу».
«Вот истинный жрец Муз, несмотря на преклонность лет и недуги старости!» — с восхищением восклицает Плетнев в письме к Гроту, изложив ему все, что сообщил Жуковский.
8 июля Жуковский пометил в верхнем углу листа дату, — в этот день начал он поэму об Агасфере «Вечный Жид». Он знал об опытах Шиллера и Гёте на эту тему. Он помнил, что Батюшков в 1821 году уничтожил среди многих своих никому не известных сочинений нечто (поэму?) под названием «Вечный Жид»... Слыхал он и о большой поэме ссыльного Кюхельбекера «Агасвер», писанной в Сибири в 1832-1846 годах... Грандиозность сюжета захватила Жуковского так, что он приступил к работе с юношеским жаром и трепетом. Конечно, ему хотелось больше рассказать не о приключениях проклятого Христом сапожника, а о собственной своей душе. Перед ним среди книг о Палестине лежало письмо Гоголя с описанием его путешествия туда. Жуковский думал о Гоголе; с мыслью о нем начал писать первые строки.
Несколько огромных тем пересеклось в сознании Жуковского — история христианства, вообще вся история мира, философский вопрос обретения веры, судьба личности на фоне грандиозных событий, значение природы и поэзии в жизни человека... Древний Рим, первые христиане, закат Рима, Наполеон на острове Святой Елены — вот фон, на котором выступает колоритная фигура романтического изгнанника (так знакомого по поэмам романтической эпохи!), но укрупненного, с чертами эпического величия.
Это была новая попытка создания романтического эпоса, некая, может быть, неосознанная попытка дать объединяющий эпилог для всего русского цикла романтических поэм, за всю половину века... Как много значила для русских поэтов-романтиков личность поверженного, изгнанного Наполеона! И очень странно, что Иван Киреевский не понял Жуковского, отметив: «Для чего Агасвер сходится с Наполеоном, до сих пор непонятно» (хотя всю поэму читал он «с сердечным восхищением»). Для Жуковского в этом эпизоде как бы дрогнули и прозвучали струны многих братских лир: Пушкина, Лермонтова (и собственное — «В двенадцать часов по ночам...»)...
Рисуя судьбу Агасфера, Жуковский громоздит глыбы исторических эпох. И только один он способен был из самой середины урагана, рушащего города и целые империи, пройдя сквозь ревущие толпы и даже сквозь раскаленную лаву Везувия, выйти к своему уединенному жилищу и размышлять о том, что всего важнее на земле для души человека:
Природа врач, великая беседа...
...Нет, о, нет,
Для выраженья той природы чудной,
Которой я, истерзанный, на грудь
Упал, которая лекарство мне
Всегда целящее дает — я слов
Не знаю. Небо голубое, утро
Безмолвное в пустыне; свет вечерний,
В последнем облаке летящий с неба;
Собор светил во глубине небес;
Глубокое молчанье леса; моря
Необозримость тихая, иль голос
Невыразимый в бурю; гор — потопа
Свидетелей — громады; беспредельных
Степей песчаных зыбь и зной; кипенья,
Блистанья, рев и грохот водопадов...
Агасфер незаметно для читателя превращается в самого Жуковского, в великого поэта, пронизавшего своим сознанием толщу веков, ныне подводящего итог своей жизни и своему творчеству. «Вечный Жид» — глубоко выстраданная поэма, настоящий символ веры Жуковского, полное выражение его личности. Поэма, хотя в ней (вместе с полным стихотворным изложением «Апокалипсиса») больше двух с половиной тысяч строк, фрагментарна, во многих местах написана лишь начерно, — поэт работал спешно, даже лихорадочно, в полной тьме и в присутствии посторонних людей — помощников...