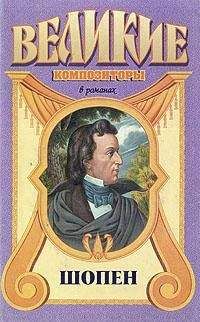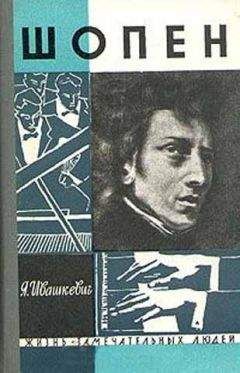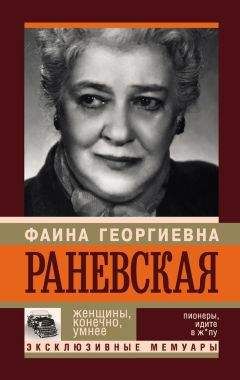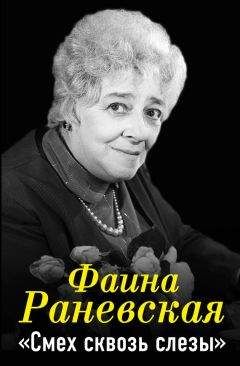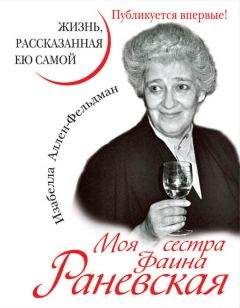– Я понимаю вашу мысль. Но где же тогда истина?
– Надо много раз проверить себя, прежде чем придешь к истине. А когда это случится, незачем говорить другому. Надо действовать – вот и все!
– Но неужели вы что-нибудь скрывали от вашей матери? Или от мужа?
– От матери я многое скрывала. Если бы я не делала этого, она, вероятно, давно умерла бы.
– Как? Неужели в вашей жизни было такое, что могло огорчить вашу мать?
– Это есть в жизни каждого человека, а особенно женщины или девушки. Если мне приходилось плохо, я сама старалась справиться. Мне кажется, главное между людьми – это не взаимная откровенность, а забота о том, чтобы другому было лучше, чем тебе. У меня была одна цель: чтобы мама жила долго и была по мере возможности спокойна.
– Да, это мудро. Но я на это не способна. Полная откровенность между близкими людьми – это залог прочности их отношений!
– А я думаю: чем больше люди любят друг друга, тем меньше они могут быть откровенны.
– Но почему же?
– Потому, что жизнь очень несовершенна. Потому, что это может ранить, а порой даже убить.
– Лучше уже так, чем обманывать!
– Не в обмане дело…
– Но в чем же?
– В том, что мы сами иногда не знаем, что с нами происходит!
– Вот потому-то, милая Луиза, я хотела бы говорить с вами! Вы растолкуете мне меня!
– Полноте! Вы, такой психолог, прибегаете к помощи обыкновенной женщины!
– Это вы – обыкновенная женщина? Аврора пересела поближе.
– Я хочу понять, – начала она, – почему шесть лет материнских забот и преданной дружбы все-таки не привели к покою. Может быть, я виновата?
– Об этом следует вам судить.
– Но я ничего не вижу… Я делаю все, что в моих силах, и даже то, что выше моих сил!
– Окажите, Аврора, почему вы так часто говорите о материнской преданности и дружбе? Мне всегда казалось, что вы любите друг друга!
– Ну, разумеется. Но я горжусь тем, что дружба и уважение…
– Бот с ними! Вы уважаете и аббата Ламенне[29] и Пьера Леру и дружите со многими. Но вряд ли вы стали бы столько возиться с ними, сколько с моим братом. Кстати, я уже говорила вам, что это совсем лишнее.
– Я вижу, Луиза, вы еще большая материалистка, чем я!
– Не знаю… Но многое меня удивляет. Ведь я привыкла считать вас моей золовкой.
– Так оно и есть. Ты моя сестра, Луиза! Для меня нет разницы между общественными установлениями и…
И Аврора принялась излагать свои убеждения. Людвика слушала терпеливо, но не особенно внимательно.
– Я знаю только одно, – сказала она: – когда любишь, надо быть женой!
– Как? Церковь и все прочее?
– Необязательно, раз у вас здесь возможно и другое. Но надо раз навсегда сказать себе, что ты замужем!
– Фу, какое отвратительное слово! За-мужем! За чужой спиной! Я уже испытала это. Какая гадость!
– У вас была сделка. А я говорю о любви.
– Какие ужасные слова: муж, жена! Я их ненавижу! Ваш брак, Луиза, исключение. Но для меня, если хотите знать, и такое исключение невозможно. Я не могу жить без свободы!
– Какая же свобода? Разве мы свободны, когда любим? Вспомните, как было, когда вы любили Фридерика!
Людвика без умысла произнесла эти слова в прошедшем времени, и Аврора попалась в эту нечаянную ловушку: не поправила ее.
– Разве любовь не оковывает нас самыми крепкими цепями? – продолжала Людвика. – Куда нам деться от своего чувства? Разве вы не раба своих детей?
– Там другое дело.
– Вое равно! Вы сами проводите аналогию… Любовь есть любовь. И это несомненное рабство. Только оно добровольное, и потому его не замечаешь. В нем нет угнетения, но не может быть свободы. Кто ищет здесь свободы, тот не любит!
– Вы несправедливы, мой друг! В чем вы видите разницу?
– Между истинным браком и так называемым «свободным союзом»? – Людвика чувствовала, что Аврора уже наполовину вовлекла ее в разговор, который нельзя было даже начинать. Но она решила высказать последнюю, как ей казалось, мысль и остановиться.
– Разница та, – сказала она тихим голосом, как всегда говорила в минуты волнения, – что в одном случае люди хотят свободы для себя, а в другом готовы и даже стремятся отдать свою свободу… и жизнь в придачу! Разница та, что в браке, – я имею в виду не, внешний, а внутренний, сердечный союз между людьми, – годы, время, всякого рода испытании только укрепляют чувство, и если даже проходит любовь, ну… та… вы понимаете, о какой любви я говорю… то люди все равно не становятся чужими друг другу, а в отношениях «свободных», в которых нет никаких обязательств, никакого долга, один становится другому в тягость, как только нарушается равновесие, например, если один надолго заболевает…
– Но я не понимаю, – Аврора встала, вся покраснев. – Я вижу, вы подозреваете меня в ужасных вещах!
– Я только говорю, в чем состоит та разница, о которой вы меня спрашиваете.
– Но тогда я считаю себя вправе требовать, чтобы вы мне доказали, в чем моя вина!
– Хорошо, я окажу, – вспыхнула Людвика, позабыв свое первоначальное решение не касаться этого вопроса, – я скажу, хотя это нехорошо с моей стороны: я ваша гостья, и вы приняли меня как нельзя лучше. Но вы сами настойчиво требуете от меня откровенности, хотя я все время сопротивляюсь этому. Так вот, выслушайте меня!
Она перевела дух.
– Вы все время говорите, что он очень болен, что вы измучились, ухаживая за ним, и так далее. И это длится уже шесть лет. Но как и почему pas вилась эта болезнь? Вспомним: для чего он покинул родину и приехал сюда? Неужели для того, чтобы давать уроки музыки разным случайным людям? Нет, для того, чтобы усовершенствовать свой композиторский дар, ну и, может быть, еще и для того, чтобы играть публично и доставлять людям радость своей игрой. Но что же оказалось? Играть в концертах постоянно, как Лист и другие, вредно для его здоровья, а сочинениями не проживешь. Это возможно для писателя, но не для композитора, он должен заниматься чем-нибудь другим, чтобы существовать!
– Но в чем же тут моя вина, Луиза!
– Погодите! Что же ему оставалось? Сделаться модным учителем – и только? О нет! Он не собирался сдаваться! И вот он со своим слабым здоровьем взваливает на себя двойную тяжесть. Он продолжает сочинять, но в то же время дает и уроки, которые не доставляют ему никакой радости и не приносят никому никакой пользы. Лишь недавно у него появились сносные ученики…
– Концерты Шарля Фильча были триумфальными…
– Но Фильч появился у него недавно, а в первые годы Фридерик страдал – и физически и душевно… И что же? – продолжала Людвика с возрастающим жаром. – Другие музыканты, вроде Калькбреннера, при отличном здоровье забросили свое творчество и только от случая к случаю что-нибудь писали, a он, работая как каторжник, харкая кровью, превращаясь постепенно в полумертвеца – я же вижу, что произошло с ним в эти годы! – создает шедевры, он совершает подвиг, а его называют «малюткой», «капризулей», надоедают ему ненужной опекой и обвиняют в дурном характере!