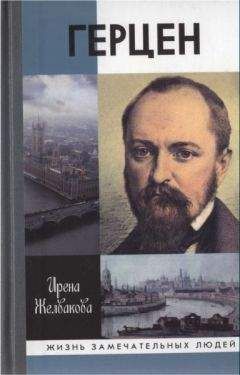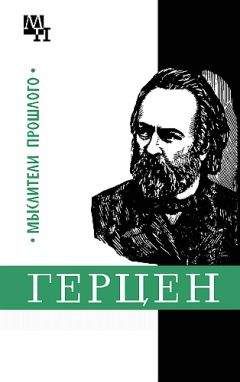Позже Герцен признается: последняя мечта, вера в возможность такого суда и в подобное правосудие, это слишком откровенное его верование в принципы «нового общества» (и добавим, банальная неспособность даже выдающегося человека «старого мира» преодолеть силу страстей) обернулись дорогой платой за ошибку.
Герцен еще в России, чувствуя душевные метания Натали и прекрасно осознавая, что время недопонимания и обид вносило в семейное счастье иные оттенки, не уставал повторять свои искренние заклинания: «Моя любовь к Natalie — моя святая святых…», «Высокая святая женщина!»
«Какая страшная судьба постигла такое высоко и широко развитое существо, за одуренье, за чад, за круженье сердца…» — писал он Марии Рейхель в июне 1852-го, когда, несомненно, зрел уже замысел его «мемуара» — «надгробного памятника» Натали, и найдены были пронзительные слова — «круженье сердца».
Крушение «частного» и «общего», подведшее Герцена к роковой черте, предчувствие новой жизни, поворотного момента судьбы, когда еще не отыгран последний акт, побудили его взяться за перо, как только вступил на далекий берег «суровой Англии».
Глава 18 НА АНГЛИЙСКОЙ ЗЕМЛЕ
Кто умеет жить один, тому нечего бояться лондонской скуки.
А. И. Герцен. Былое и думы
«С уваженьем, с истинным уваженьем поставил я ногу на английскую землю, — какая разница с Францией!» — Герцену вдруг показалось, что он свободен, что на время сброшен груз следовавших за ним повсюду мучительных раздумий. Пароход, на который они сели с Сашей 23 августа 1852 года, на следующий день, в пять часов утра, доставил их в Дувр.
Миновав множество государственных границ, не раз претерпев ужас потери «пасса», он отметил особую легкость вступления на английский берег и в письме к Марии Рейхель, чуть ли не единственному душевному его адресату той одинокой поры, не удержался от каламбура; поиграл со словом vapeur (пароход), повторив его в два слога: «va peur», что обернулось выражением — «долой страх». Страха не было. На время появилось ощущение гостеприимства, которое самая в ту пору цивилизованная страна с ее гражданскими свободами могла предъявить изгнанникам. По приезде отчитался Марии Каспаровне: «Один, единственный констабль на границе подошел к нам — для того, чтоб помочь Саше пройти по доске. — На таможне написано в углу: „Здесь иностранцы предъявляют паспорты, кто не предъявит, может подвергнуться штрафу до двух фунтов“. Мимо этого бюро иностранцы идут с хохотом. Ни один не отдал своего и не показал…»
Вынужденная «охота к перемене мест», как ни странно, снимала его раздражение и беспокойство. «Воля-то, воля-то какая». Его «реальная натура», как он полагал, брала верх, а «призрачный мир», в котором пребывал все последнее время, постепенно отступал, рассеивался как туман.
Если взглянуть на живописные виды Лондона, ставшие популярными в XIX веке, они отнюдь не представляют английской столицы в пелене угольно-пыльного смога, закрывающего оттененную художниками (вроде Тёрнера) синеву небес. Хотя Лондон вовсе не чистенький и не стерильный, а часто промозглый, грязный и туманный, каким и представлен в романах Диккенса. (Достаточно напомнить, что в середине XIX столетия город еще источает заразу и нечистоты, что ватерклозеты здесь появились только в 1859 году, а до этого времени Темза, как слив нечистот, ассоциировалась с великим лондонским зловонием.)
Герцен видел Лондон разным. Город был поделен на богатые кварталы, естественно, благополучные, и районы трущоб, где «сто тысяч человек всякую ночь не знают, где прислонить голову».
Думал ли он долго жить в Лондоне? Полагал, что нет, но примерно месяца через два, сменив несколько квартир, решил остаться. Понял окончательно: прибило к новому, чужому берегу, но ехать ему некуда и незачем. Подыскал себе дом в отдаленной части города с видом на великолепный Риджент-парк, да и взял себе за правило и ежедневную привычку прогуливаться после работы.
Дом, принадлежавший какому-то скульптору, носил следы художественного беспорядка. Там и сям торчали статуи и модели, в которых угадывались лица исторических персонажей. Можно вообразить, что комнаты напоминали Герцену их семейный особняк на Тверском бульваре, куда, захламленными залами, сквозь хаос громоздких артефактов — запылившихся скульптур, снятых со стен картин, он часто пробирался в маленький кабинет своего двоюродного брата, оригинала Химика. Да и вообще, теперь собственная жизнь виделась ему заброшенным старым домом, где для него «сохранился еще обитаемый уголок».
Последний акт трагедии недоигран, «fatum влечет», — написал Герцен московским друзьям, еще не ступив на английский берег. Сказал пронзительные слова: «За одно объятие теплое, братское с вами отдал бы годы…» После стольких утрат он стремится выговориться, но нет сил. Однако главное сказано, рассказано начистоту: да будет свята им «память великого существа — раз увлекшегося и так велико восставшего и так страшно казненного… Может, все величие ее я узнал после падения. Но спасти физически было нельзя. — Нравственно она будет мною спасена — и это сделано уже. — Но пока этот человек дышит, нет даже recueillement…[125]». «Дети и гроб» — мысли только об этом.
Ему невыносима разлука с детьми: скоро ли с ними свидится. Он заботится о девочках, посылает игрушки, пишет ласковые письма, наставляет старшую дочь: «Душечка Тата… Ты русская девочка — и должна Олю учить по-русски». Любимица Тата, натура душевная и «несообщительная», страшно похожая на мать, очень близка отцу. Конечно, большие надежды возложены на Сашу — вот кому он «мог бы преемственно передать» свое дело, и до поры в этом уверен. Сын должен учиться: сначала у Фогта в Женеве, а потом в Париже. «В Париже он должен жить у вас, — пишет Герцен Рейхель. — <…> Дело в том, что кроме вашего пристрастия к нам, вы сделаете из детей русских. <…> Я вам завещаю развить в них сильную любовь к России. Пусть даже со временем они едут туда…» Жить среди иностранцев и остаться русскими… Мысль, не покидавшая его никогда.
Европейские революции вымели с континента множество разных людей. Лондон превратился в средоточие эмиграции. Теперь Герцену предстояло столкнуться с вынужденными поселенцами этой «вольницы пятидесятых годов»: довериться «святому» А. Саффи, которого особо выделяет из эмигрантов, встретиться вновь с благородным Маццини, «личностью колоссальных размеров», начать дружбу с венгром Кошутом, поляком Ворцелем, сотрудничать с другими лидерами международной демократии, возвысившимися, по его словам, как «горные вершины» над низменной повседневностью эмигрантской политической суеты. Однако чрезмерные надежды на прилив новой революционной волны в их родных странах, которым посвящается вся жизнь, кажутся Герцену неоправданными.