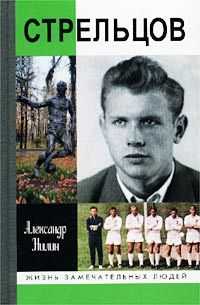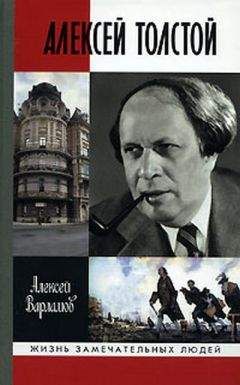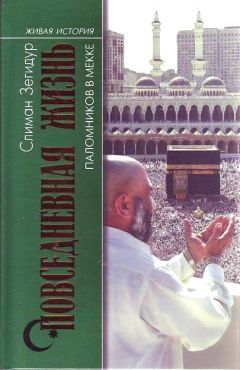Я не поручусь, что полностью излечился от суетности. И, возможно, какими-то знакомствами тщеславлюсь по инерции и до сих пор. Однако стремлюсь к ним несравнимо меньше, а иногда мне кажется, что уже и вовсе не стремлюсь.
Своим увлечением футболистами — не футболом (футболом-то увлекались тогда очень многие и с футболистами знакомились охотно), а вот отдельными в нем личностями, чью роль в обществе я, по мнению, кстати, и ценивших этих ребят граждан, чересчур преувеличивал — я множеству людей надоел и множеству людей представился ограниченнее, чем был на самом деле в молодости. Те, кто хорошо ко мне относился, пытались отыскать в моем поведении здравые мотивы. Один человек, много сделавший, чтобы я прижился в редакции «Советского спорта», впрямую меня спросил: «Ты все время с футболистами… Что, роман собираешься писать из жизни оболтусов?» Он даже грубее обозвал возможных персонажей — я просто считаю неэтичным в книге о Стрельцове процитировать им сказанное буквально. Я только обращаю внимание, что люди, существовавшие за счет интереса обывателя к спорту, не считали, что такой интерес должен превращаться в безграничный. Я казался оболтусом, который ищет в других оболтусах то, чего нет и не должно быть.
Затрудняюсь объяснить, почему ничего в те годы не писал о футболистах, которые тогда-то и были в славе. Сводил все впечатления к бесконечным устным рассказам. А в своем отделе культуры АПН писал поверхностные — согласно законам принятых в Агентстве жанров — заметки про артисток, про театр и кино. Видимо, считал, что для сочинений про футбол мне не хватает эрудиции, обязательной для проникновения в суть явления — для всех вокруг, получалось, более ясного, чем для меня.
Правда, и устными своими рассказами я кое-кого увлек. И не кое-кого, раз уже завел речь о знакомствах со знаменитостями, а Гену Шпаликова, когда мы встретились в гостях у физиков в Академгородке под Новосибирском и долгий вечер проговорили про футбол и футболистов. Он тут же сказал, что мне надо написать сценарий, а он его поставит как режиссер. Сразу же пришло тогда в голову название-образ: «Сезон». Про то, что значит каждый отдельно взятый сезон для игрока, я уже догадывался. Но не допер до главного, что сценарий мог и должен был стать автобиографическим. В той молодости, которую я так глупо транжирил, и год собственной жизни следовало уподабливать сезону. И помнить, что в публичных профессиях — все на продажу. И впечатления от знаменитых футболистов следовало положить на бумагу немедленно, пожертвовав хотя бы одним из совместных вечеров в ресторане. А я дожидался, пока провалюсь в роли близкого знакомого. И теперь утешаю себя только тем, что тот невидимый миру провал уберег меня в дальнейшем от некоторых самообольщений.
Но, с другой стороны, живут же люди, самообольщаясь близостью к тем, кто на виду, — и кто-то же из них попадает в стаю, остается в стае? Долетел с ней до завершения века…
Я слышу ропот потерявшего терпение читателя, что слишком уж надолго оставил в стороне Стрельцова. Однако — терпение, терпение — он скоро снова появится. И еще очевиднее — для меня же самого — станет, что никакие отступления в повествовании про Эдуарда не отдаляют его. Он странным образом оказывается всегда причем — он связан с тем, что происходит со всеми нами, сюжетнее и родственнее, чем я предполагал, отталкиваясь от замысла в создании книги…
…В ресторан гостиницы «Советская» Стрельцов пришел вместе с игроками «Динамо» — при всей приверженности к «Спартаку» Эдуард дружил и с динамовцами. Он был на стадионе, где «Динамо» играло уже не помню с кем из приезжих, но знаю, что московские футболисты огорчены были счетом 1:1. Мудрик забил гол в свои ворота. И Стрельцов утешал после игры тезку. Говорил, что виноват Яшин — оставил ближний угол. А мяч в ближний и влетел от своего защитника. «Виктор Александрович нас учил всегда прикрывать ближний угол, — утешал он Мудрика, — забей ты в дальний, ты виноват, а раз в ближний, то — Лева». И с горя отправились в «Советскую» — виновник ничьей (то есть Эдуард Мудрик, а не Яшин), Маслов с Аничкиным и, конечно, Игорь Численко (шутили, что колонна в зале ресторана построена на его деньги, и, когда «Число» бедствовал, негодовали, что официанты не поят-кормят Игоря Леонидовича бесплатно). Ну и еще несколько человек. Футболистов посетители узнали — с одного из столов прислали шампанское. Короленко уже начал откупоривать бутылку, когда в Стрельцове заговорила профессиональная гордость: «Своих, что ли, денег нет?» Купили много выпивки и покатились в Покровское-Стрешнево — домой к Валерию Маслову. И там замечательно гуляли без посторонних. Ближе к ночи размягченный Стрельцов неожиданно поинтересовался: почему Маслов ничего ему никогда не подарит? Маслов развел широко руки: «Да бери, чего хочешь, Эдик. Все — твое. Вот вазу, например!» — «Ваз у меня своих полно». Сообща стали ломать голову насчет подарка, достойного и значимости гостя, и щедрости хозяина.
Валерий Маслов был же и прославленным хоккеистом — одним из самых великих игроков в хоккей с мячом — у него на стене висела подарочная клюшка с лампочками электрическими, в нее вмонтированными. Динамовец сорвал ее со стены — протянул Эдику. Но тот велел, чтобы все расписались — на память «Игорьку»: Стрельцов вообразил свое позднее возвращение домой и вспомнил про сына. Все с удовольствием расписались на клюшке. И жена Маслова — тоже. Но ее автограф Эдик попросил стереть: нужны известные люди… Он думал о будущем сына в нашем обществе. Сам же он позволял себе роскошь жить вне иерархии. Я столкнулся с этой его особенностью, когда сам уже примирился с иерархической зависимостью от всех встреченных прежде в жизни более или менее знаменитых соотечественников.
35
Десятое место, занятое торпедовцами в шестьдесят девятом году (в финальную стадию чемпионата вышло четырнадцать команд), не помешало им поспособствовать возвращению первенства в Москву.
Перешедший из «Торпедо» в «Спартак» Анзор Кавазашвили провел свой лучший сезон и сделался в преддверии Мексики основным вратарем национальной сборной.
Принципиальный матч из Киева транслировался на всю страну — и вся страна, даже та ее часть, что за «Спартак» не болела, поверила в Анзора.
Уходил он из «Торпедо», демонстрируя свое отношение к старшему тренеру Иванову. А Кузьма — и догадываясь, как им плохо придется без такого вратаря, — не смог заставить себя приложить максимум стараний для удержания его в команде.
Злые языки уверяли, что в бытность Иванова игроком они с Анзором то ли подрались, то ли чуть не подрались на тренировке — и торпедовский премьер не мог простить подобного нарушения принятой в команде субординации. Я при этой сшибке между форвардом и вратарем не присутствовал, но помню, что Кавазашвили держался в «Торпедо» вожаком и с другими авторитетами считался тем меньше, чем больше возрастало его вратарское значение. Он не был чужд и дедовщине, обращаясь с новобранцами. Сам слышал, как выговаривал он молодому Гершковичу за то, что Михаил грызет в раздевалке яблоко перед началом игры. Гершкович, однако, пришел в «Торпедо», чтобы играть со Стрельцовым, а не подчинять себя установленным там порядкам. Он и бровью не повел на укоризну заслуженного вратаря, поддержанную гневным окриком Андреюка.