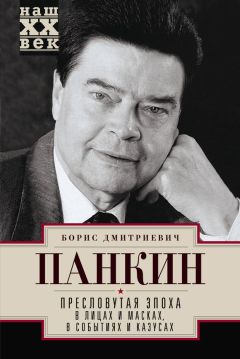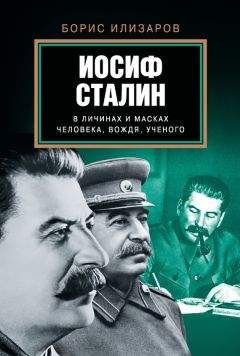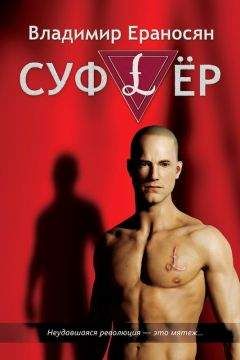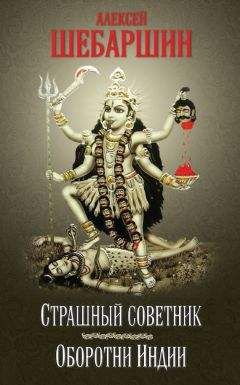В жизни Буковского, который и Сахарову, и Солженицыну в сыновья годится, ничего этого не было. Его если уж сравнивать, то скорее с ненавистным ему, наверное, Лениным, вернее Володей Ульяновым, который выбрал свой путь после казни за попытку покушения на царя его старшего брата Александра, тоже, кстати, не знавшего компромиссов и заплатившего за это жизнью. Политические устремления прямо противоположные, а натура та же? И эта мысль приходила мне в голову тогда, перед первой встречей с Владимиром Буковским.
– Я был агрессором, если уж хотите знать, – говорил Буковский.
Быть может, именно это его качество помогло ему преодолеть первые запреты и вопреки рекомендациям попасть из школы не в «здоровый рабочий коллектив», а пробиться в тот же Московский университет, на биологический факультет, откуда уже через год его тоже выдворили, но уже с более тяжелыми последствиями. Он сделал копию с одолженного ему экземпляра книги Милована Джиласа «Новый класс» и, увлекшись этой бывшей у всех нас на слуху в ту пору ересью, предложил почитать ее кое-кому из друзей. Кто-то из них, видимо, донес, и его уже как антисоветчика-рецидивиста, каковым советский человек мог стать только по нездоровью, отправили в недоброй памяти Институт Сербского, в «психушку», которые только-только начинали тогда «входить в моду». Это было уже для него даже не чистилище, а первый из кругов ада, которые ему предстояло пройти.
Дело было, не преминул заметить в своей книге Никлас Бетелл, в июне 1963 года, когда Запад «идолизировал» Никиту Хрущева за его разрешение опубликовать «Один день Ивана Денисовича». Вообще, кажется, идолизировать советских, а теперь уже и российских лидеров – что-то вроде хобби на Западе. Даже Сталин обрел своих апологетов вроде Фейхтвангера, Мартина Андерсена-Нексе, Ромена Роллана и других. Согрешил даже ненавидевший коммунизм Уинстон Черчилль.
Четырнадцать месяцев Буковский провел в одной камере, то бишь палате, с двумя действительно сумасшедшими, один из которых был маньяком, убившим своих детей. Однажды, на глазах у своих сокамерников, он отрезал себе ухо и проглотил его.
У Буковского все еще было впереди, но эти четырнадцать месяцев он и в Лондоне, в разговорах с английским лордом называл самыми страшными в своей жизни.
Тем не менее вся его дальнейшая деятельность, да и жизнь была уже хладнокровным и непрерывным вызовом властям.
В результате чуть ли не сразу после выхода из психушки он был снова арестован и заключен на восемь месяцев, отсидев которые в январе 1967 года, стало быть уже после падения Хрущева, организовал вечером на Пушкинской площади вместе с двумя своими товарищами «групповые действия, грубо нарушившие общественный порядок», требуя освобождения трех других единомышленников, обвиненных в подобных же акциях.
Снова суд и снова приговор – «три года лишения свободы с содержанием в исправительной колонии общего режима».
По выходе из заключения – год на свободе, если его тогдашнее положение можно назвать этим словом, и в марте 71-го года – снова арест и снова приговор, на этот раз уже на двенадцать лет – семь лет лагерей и пять лет ссылки.
В августе 75-го года его освобождения потребовала «Эмнести интернашионал», к которой обратилась его мать, сообщившая, что ее сыну грозит смерть от пыток и голода: он был посажен на много недель в карцер с такой «диетой», которая неминуемо должна была привести к летальному исходу.
Все это время, рассказывал он в Лондоне лорду Бетеллу, ему предлагали покаяться, публично, разумеется, что, мол, сразу бы привело к «радикальному улучшению условий и скорому освобождению».
– Вы больше заинтересованы в моем освобождении, чем я в том, чтобы быть освобожденным, – бросал он в глаза своим мучителям.
Вот такого человека ожидал я в двухсотлетнего возраста особняке бывшего советского, а теперь российского посольства в Лондоне, на улице Кенсингтон-Палас-Гарден-стрит, с окнами на дворец, где еще проживала со своим мужем – наследным принцем – и двумя сыновьями принцесса Диана, с которой мы уже успели стать, решусь сказать, добрыми друзьями.
То, что он так охотно согласился прийти, – подбадривало. Но что это означает? Эпизод с Виктором Файнбергом в ратуше Праги два с небольшим года назад стучал в мою грудь, как пепел Клааса.
Пора стояла такая, что встреча могла обернуться чем угодно. И вот, с опозданием минут на двадцать, в тот самый скромный из всех представительских помещений зал, где я его ждал, в сопровождении моего помощника, встретившего гостя, как положено, у главного входа, вошел человек, меньше всего похожий на страдальца и фанатика. Твидовый серый пиджак нараспашку, мягкая рубашка с расстегнутым воротом. Невысокого роста, не то чтобы полный, но широкий в кости. Брюки без стрелки и ботинки, видавшие виды. Небрежная прическа, открывающая лоб, и смеющиеся глаза.
Извинился непринужденно за опоздание – не рассчитал расписания поезда, доставившего его из Кембриджа в Лондон, – расположился с удобством в предложенном ему кресле со стершейся позолотой на спинке и ручках и вопросительно посмотрел на меня с той же улыбкой, не столько, однако, сокращавшей, сколько оберегавшей дистанцию между ее обладателем и его собеседником.
С тем же окрашенным миролюбием скепсисом он подержал в руках и полистал паспорт, который я ему протянул после обмена обычными для первых минут знакомства фразами.
– Чему бы он мог, собственно говоря, служить? – спросил он с коротким смешком, который в дальнейшем мне частенько приходилось от него слышать. – Ведь двойное гражданство в России, как и бывшем Советском Союзе, не разрешено. А отказываться от британского гражданства я не собираюсь.
Мне ничего не оставалось, как согласиться с тем, что паспорт был ему выписан, строго говоря, в нарушение законодательства, пусть и устаревшего, и его надо рассматривать просто как знак «высочайшего внимания». Словом, своего рода сувенир.
Кажется, ему понравилось, что я не стал говорить никаких торжественных фраз по поводу данного знаменательного события. Он сунул паспорт в карман, напряжение, если оно было, отпустило его, он обвел взглядом все вокруг и лишь на мгновение задержал его на украшавшей зал стойке бара с массивной батареей бутылок на ней.
Я воспользовался этим и предложил выпить, если не по поводу паспорта, то, по крайней мере, в связи с нашей первой встречей.
Слегка как бы удивившись этому предложению и сказав: «Я с утра вообще-то не пью», он с удовольствием пропустил вместе со мной пару рюмок, закусил квадратными канапе с черной икрой, которую еще присылали по старой памяти из Москвы, слегка зарделся лицом и стал прощаться.