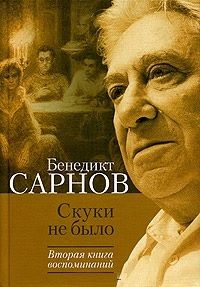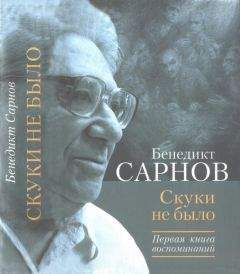Там, в Гренобле, на одном из первых наших заседаний произошел такой инцидент.
Входивший в нашу делегацию Олжас Сулейменов позволил себе довольно гнусную выходку. Поспорив о чем-то с Эткиндом, он заговорил с ним «как русский царь с евреем». Точнее — как советский человек с отщепенцем, невозвращенцем, предателем. Подробностей и деталей я сейчас уже не помню. Помню только, что в этой своей отповеди Олжас назвал Фиму бывшим профессором.
Запомнилась мне именно эта замечательная формулировка, я думаю, потому, что она поразила меня тогда своей очевидной нелепостью. «Бывший профессор» был тогда профессором Сорбонны, и это новое его профессорство было уж никак не менее весомым, чем то, которого его лишили в Советском Союзе.
Напоминаю, что заря перестройки тогда еще только-только забрезжила, и выходка Сулейменова была вполне в духе сохранявшей всю свою мощь советской официальщины. И хотя эта его выходка возмутила (я думаю) всех присутствующих, в первую минуту никто не нашелся: все сидели, как оплеванные.
И тут встал Булат.
Холодно, сдержанно, по форме вполне вежливо, но по существу предельно резко и даже презрительно он высказал Олжасу все, что он думает не только о неприличном тоне, но и о самой сути его высказывания.
Олжас ничего не ответил. Тем вроде дело и кончилось.
Но когда вечером того же дня все мы собрались в кантине за обычным нашим общим — то ли поздним обедом, то ли ранним ужином, — Олжас вдруг встал и в мгновенно наступившей тишине публично принес Фиме свои извинения.
Не знаю, какая там работа перед этим происходила в его мозгу. То ли ему и в самом деле стало неловко, то ли вдруг до него дошло, что времена уже не те, и зря он так оскоромился. Как бы то ни было, неприличную свою выходку он решил загладить. И извинился.
Все присутствующие — кто помягчевшими, довольными лицами, а кто и возгласами — выразили по этому поводу своё удовлетворение. А Фима поднялся и с доброй близорукой улыбкой, с дружески простертой рукой двинулся навстречу Олжасу. Вот они сошлись, и ладони их сомкнулись в братском рукопожатии.
«Ну похристосуйся, похристосуйся с ним!» — раздраженно подумал я. И хотя «христосоваться» с Олжасом Фима не стал, ограничился рукопожатием, это мое раздражение не только не прошло, но даже усилилось.
По моим понятиям Фима должен был, принимая извинения Олжаса, холодно кивнуть. Может быть, даже и обменяться рукопожатиями, но при этом всем своим видом показывая, что никакие извинения не смогут заставить его забыть то, что произошло два часа тому назад. И вот вместо холодного кивка или, на худой конец, холодного, сдержанного, дипломатического рукопожатия — эта добрая, открытая, даже какая-то растроганная всепрощающая улыбка!
Нет, этого я понять не мог.
«Прямо иисусик какой-то!» — раздраженно подвел я итог своим чувствам и мыслям.
На второй или на третий день нашего пребывания в Гренобле было назначено публичное выступление трех наших поэтов: Андрея Вознесенского, Саши Кушнера и Булата.
Вечер проходил в каком-то большом концертном зале. Кушнера представлял Фима, а Андрея и Булата должен был представить я.
Аудитория состояла наполовину из русских, наполовину из французов, и Фима о Кушнере говорил на своем блестящем французском. Ну а я, естественно, собирался говорить про Андрея и Булата на том единственном языке, на каком мог это сделать, то есть — на русском.
Фима отговорил свою искрометную французскую речь и на авансцене уже читал свои стихи Кушнер. А мы трое — Андрей, Булат и я — сидели в глубине сцены и ждали — каждый своего выхода.
— Когда будешь говорить обо мне, — шептал мне в ухо сидящий слева от меня Вознесенский, — не забудь сказать о наших выступлениях в 60-е годы. О том, что на наши вечера собирались тысячи людей, была конная милиция…
— Да, конечно, обязательно скажу, — кивал я.
— И не забудь, пожалуйста, сказать, что я почетный член… — И он перечислил несколько каких-то международных академий.
Я кивал: да-да, непременно, можешь быть спокоен, не забуду.
Таких напоминаний он мне сделал не то шесть, не то восемь. Половину из них во время своего выступления я вспомнил, а половину, конечно, забыл. Но всё, о чем не вспомнил, забыл упомянуть в своем выступлении я, Андрей сказал о себе сам. А сказав, отчаянно завывая и гримасничая, стал читать свои стихи.
Вообще-то он читал прекрасно, и каждое его выступление на Родине — как и публичные выступления Жени Евтушенко — являли собой великолепный «Театр Одного Актера». Но здесь — очевидно, в расчете на французскую часть аудитории, не понимавшую по-русски, — по части жестов, мимики и завываний он, как мне показалось, слегка перебарщивал.
А Булат тем временем шептал мне — в другое мое ухо.
— Я не понял, это ты уже про нас обоих сказал? Или только про Андрея?
— Только про Андрея. Сейчас он кончит — и буду про тебя.
— Ну ладно. Только покороче…
И перед самым моим выходом еще несколько раз повторил:
— Покороче, Бен… Прошу тебя, покороче…
Я постарался выполнить эту его просьбу.
Начал с того, что у нас, в нашей стране, Булат ни в каких представлениях не нуждается. И в доказательство привел тут же вспомнившийся мне случай.
Однажды мы вчетвером: Володя Корнилов со своей женой Ларисой, моя жена и я, прошли горными тропами через Карадаг и, спустившись к Щебетовке, утомленные длинным пешим переходом и жарой, с радостью обнаружили там какую-то «чебуречную». Чебуреки, которыми нас там накормили, показались нам необычайно вкусными, а холодный компот, которым мы их запивали, доставил нам совсем уже неизъяснимое наслаждение. И обслужили нас в этой «чебуречной» быстро и вежливо, чем мы, привыкшие к ненавязчивому советскому сервису, тоже были приятно удивлены. По всему по этому, когда, поблагодарив обслуживавших нас девушек, мы вышли из этого заведения и тронулись в путь, моя жена сказала, что надо бы написать им что-нибудь хорошее в ихнюю «Книгу жалоб и предложений», которая у них наверняка есть. Выразить им не только устную, но и письменную благодарность. Сказано — сделано. Она вернулась обратно и спустя несколько минут, выполнив то, что хотела, догнала нас. И тут — к нашему изумлению — вслед за ней высыпал на порог «чебуречной» весь ее коллектив. Было их человек, наверно, пять или шесть. И все они глядели нам вслед, поставив ладони козырьком, как смотрят на солнце.
— Что это они? — подозрительно спросил я у жены. — Что ты там такого им понаписала.
— Ничего особенного, — сказала она. — Просто поблагодарила, и все. А подписалась: «Булат Окуджава». Ну, чтобы им приятно было…
Эта моя история имела успех — во всяком случае, у русской части аудитории. Хотя и французы, кажется, тоже поняли, как знаменит наш Булат у себя на родине.
Что еще я говорил в том своем вступительном слове про Булата, сейчас уже не вспомню. Помню только, что сказал про его стихи, что они не поддаются анализу. Фокус, мол, можно объяснить. А как объяснить чудо?
На следующее утро за завтраком к моему столику подсел Андрей.
Наливая себе кофе и разбивая ложечкой скорлупку яйца, он глянул на меня с усмешкой и сказал:
— А мои стихи, значит, можно проанализировать?
— Твои можно, — сказал я. И с досадой подумал, что вот черт меня дернул испортить Андрею обедню — не миновать теперь длинного и неприятного выяснения отношений. Но Андрей был умен и развивать эту тему не стал.
В Гренобле мы провели неделю. А следующую неделю — в Париже.
Там — помимо того, что Париж это «праздник, который всегда с тобой», — меня ожидало много впечатляющих встреч, главной из которых была встреча с Андреем Синявским и его женой Марьей. Они встретили меня как родного, повели в ресторан, угощали какой-то редкостной дрянью: улиткой, которую надо было извлекать из ее скорлупы какими-то специальными щипцами. («Дадим еврею съесть улитку», — сказала злоязычная Марья, заказывая для меня это экзотическое блюдо.)
Потом чуть ли не всю ночь мы гуляли по Парижу, а остаток ночи провели у меня в номере: говорили, говорили — не могли наговориться.
На следующий день Булат — он уже далеко не первый раз был в Париже — повел меня в редакцию газеты «Русские новости», где мы встретились с Аликом Гинзбургом — тем самым, который «Гинзбург и Галансков»: я немного знал его по Москве. Но самому, без Булата, мне и в голову бы не пришло встречаться в Париже с полузнакомым знаменитым диссидентом, защищая которого мои друзья Биргер и Балтер лишились своих партийных билетов.
Потом мы с Булатом долго сидели в каком-то маленьком кафе: третьим с нами был старый поэт, один из последних осколков первой эмиграции Кирилл Померанцев. С ним Булат познакомился давно, в один из самых первых своих приездов в великий город, а теперь вот познакомил со стариком и меня.