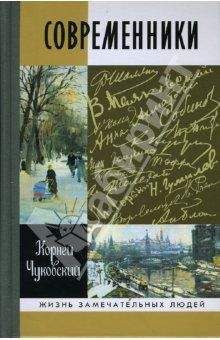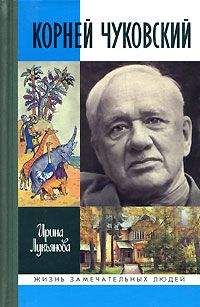Квитко был молчалив от природы, но умел так внимательно и сочувственно слушать других, что всегда создавалось впечатление, будто он самый энергичный участник беседы.
Его краткие, но очень эмоциональные реплики подстегивали общий разговор. Помню, приходил к нам в это время Борис Житков, обычно тоже расположенный к молчанию. Но в присутствии Квитко он становился безудержно говорлив и общителен. Однажды мы просидели с Житковым у Квиток, не вставая из-за стола, от обеда до ужина, и разговор не прекращался ни на миг. Порою (очень редко!) после наших усиленных просьб Квитко доставал из кармана тетрадку и читал свои последние стихи — сначала невнятно, застенчиво, а потом увлекался музыкальным напевом и читал с большим одушевлением, лелея каждую аллитерацию, каждую рифму, каждый ритмический ход.
Я из деревни недавно вернулся.
Сколько там самых чудесных чудес.
Он и не предвидел тогда, что близится время, когда его простосердечное доверие к людям, к природе, к жизни будет оскорблено и поругано — сначала гитлеровцами, самое существование которых никак не вмещалось в созданный его творческим воображением ласковый и радостный мир…
Можно было подумать, что от этого милого мира, от наивно восторженной веры у Квитко уже ничего не осталось после того, как он столкнулся с фашистскими зверствами. Он так и сказал в своем «Слове о детях»:
Весь мир был щедр и говорил мне: верь!
Увы, не то теперь,—
и то же самое в стихотворении «Лес»:
Я прежним никогда теперь не буду.
Но чувство разочарования и скорби не могло навсегда завладеть его мажорной душой.
Война кончилась победой добра над бесчеловечьем и злобой, и вот в том же стихотворении «Лес» послышалось прежнее, квитковское:
Но я тебе, как празднику, как чуду,
Сердечно рад!
Квитко, уже седой, постаревший, но по-прежнему ясноглазый и благостный, снова вернулся к своим излюбленным темам и в новых стихах стал по-прежнему славить и весенние ливни, и утренние щебеты птиц, и молодого жука, прогудевшего над садом, как мотор самолета, и муравья, который тащит соломинку:
Гляди, соломинка идет,
Эй, встречный, берегись!
В эти послевоенные годы мы часто встречались. У него был талант бескорыстной поэтической дружбы. Его всегда окружала крепко сплоченная когорта друзей, и я с гордостью вспоминаю, что в эту когорту он включил и меня.
Теперь, как и прежде, он входил ко мне светлый и дружественный и после моих долгих упрашиваний доставал, как и прежде, из внутреннего бокового кармана небольшую тетрадку в простом переплете и начинал, как и прежде, неуверенным, застенчивым голосом читать свои последние стихи, и, так как его творческие силы оставались неистощимы, как в молодости, в тетрадке всегда были новые строки, доставлявшие мне новую радость.
Казалось, что впереди у него долгие годы вдохновенного творчества.
Читать его книги мне было на первых порах нелегко. Больше четверти века назад, живя под Ленинградом в деревне, получил от него в высшей степени загадочную книгу, напечатанную еврейскими буквами. Этих букв я не знал ни одной. Но сообразив, что на заглавном листе, наверху, должна быть проставлена фамилия автора и что, значит, вот эта узорчатая буква есть К, а вот эти две палочки — В, а вот эта запятая — И я стал храбро перелистывать всю книгу. Надписи над картинками дали мне еще около дюжины букв. Это так окрылило меня, что я тотчас пустился читать по складам заглавия отдельных стихов, а потом и самые стихи: «Яслес шпацирн», «Дос жукл», «Ди фердл», «От гейт а регн».
Я написал ему о своем скромном триумфе и получил от него такое письмо:
«Когда я вам посылал свою книжку, у меня было двойное чувство, желание быть прочитанным и понятым вами и досада, что книга останется для вас закрытой и недоступной. И вот вы неожиданно таким чудесным образом опрокинули мои ожидания и превратили мою досаду в радость».
Писал он на еврейском жаргоне — так называемом «идиш». Я с детства слыхал, что это будто бы уродливый и вульгарный язык, но в стихотворениях Квитко он звучал пленительно, мелодично, изящно. Это изящество стало для меня ощутимо, когда Квитко прочитал мне — еще в первые дни нашей дружбы — своего великолепного «Медведя в лесу».
Ветер веет.
веет,
веет.
Теплым снегом сеет, сеет.
Пух да пух
Бело вокруг.
Сразу тихо-тихо стало.
Снег лежит как одеяло.
Но может ли самый любовный, самый художественный перевод передать всю изощренную звукопись подлинника? Даже походка медведя, идущего по этому белому, тихому, заснеженному лесу, была искусно передана в подлиннике. Мелодика Квитко до того экспрессивна, что, даже не зная всех слов языка, угадываешь их внутренний смысл.
Когда я познакомился с подлинниками стихотворений Квитко, я подметил в них одну важную черту: железную дисциплину стиха, не допускающую ни малейшей расхлябанности. Отсюда любимая форма поэта — симметрически распределенные строфы, заполненные одним и тем же словесным узором, — форма, которая свойственна главным образом народным певцам, наиболее близким к родному фольклору — таким, как Некрасов, Беранже, Шандор Петефи, Фергюсон, Роберт Бернс, — ибо Квитко был раньше всего народный поэт в лучшем смысле этого огромного слова.
Наиболее колоритным примером такой песенной, фольклорной структуры стиха представляется мне квитковский «Жених без невесты» в отличном переводе Елены Благининой, в котором народная стихия поэзии Квитко ощущается особенно сильно:
Бубенцы звенят-играют
На первой пролетке,
На первой пролетке.
На пролетке свахи-пряхи,
Невеста в середке,
Невеста в середке…
Ой, ой, песня льется,
А невесте не поется!
Ой!
Бубенцы звенят-играют
На второй пролетке,
На второй пролетке.
На пролетке сваты-хваты,
А жених в середке,
А жених в середке…
Ой, ой, песня льется,
Что ж невесте не поется?
Ой!
Бубенцы звенят-играют
На третьей пролетке,
На третьей пролетке.
На пролетке дяди-тетки,
А скрипач в середке,
А скрипач в середке…
Ой, ой, все запело!
Что ж невеста онемела?
Ой!
Только выехали в поле,
Как навстречу конный,
Как навстречу конный.
Ой, как вспыхнула невеста,
Что костер зажженный,
Что костер зажженный.
Ой, ой, плохо дело!
Все молчат — она запела!
Ой!
Кони мои, кони мои,
Ступайте до дому!
Ступайте до дому!..
Горе тебе, горе тебе,
Парню молодому,
Парню молодому!
Ой, ой, смех не к месту,
Потерял жених невесту…
Ой!
Не знаю, почему Елена Благинина вырастает на десять голов едва только соприкасается с произведениями Квитко. Именно тогда у нее появляется и большое дыхание, и разнообразие душевных тональностей, и тонкое чувство стиля, и безукоризненный вкус. Великолепно перевела она и стихотворение «Однажды», в котором я чувствую самую суть, самую квинтэссенцию всей поэзии Квитко. Это стихотворение о том, как однажды осенью он выкопал в саду две маленькие елки, чтобы тотчас же посадить их на новом месте, но не посадил и вспомнил о них только зимою.