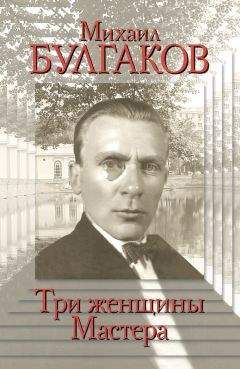Таиров начал, слегка заикаясь:
– Да, товарищи, нелегкая задача – выступать с оценкой такого произведения, какое нам выпала честь слушать сейчас! За свою жизнь я бывал много раз на обсуждении пьес Шекспира, Мольера, древних – Софокла, Еврипида… Но, товарищи, пьесы эти, при всем том, что они написаны, конечно, великолепно, – все же как-то далеки от нее! (Гул в зале! Пьеса-то тоже несовременная!) Да, товарищи!!! Да! Пьеса несовременная, но! Наш дорогой Федор Федорович именно гениально сделал то, что, взяв несовременную тему, он разрешает ее таким неожиданным способом, что она становится нам необыкновенно близкой, мы как бы живем во время Робеспьера, во время Французской революции! (Гул, но слов разобрать невозможно.) Товарищи! Товарищи! Пьеса нашего любимого Федора Федоровича – это такая пьеса, поставить которую будет величайшим счастьем для всякого театра, для всякого режиссера! (И тут Таиров, сложив руки крестом на груди, а потом беспомощно разведя руками, пошел на свое место под еще более бурные овации подхалимов.)
Затем выступил кто-то третий и сказал:
– Я, конечно, вполне присоединяюсь к предыдущим ораторам и их высокой оценке нашего многоуважаемого Федора Федоровича! Я только поражен, каким образом выступившие ораторы не заметили главного в этом удивительном произведении?! Языка! Я много читал в своей жизни замечательных писателей, я очень ценю, люблю язык Тургенева, Толстого! Но то, что мы слышали сегодня, меня потрясло! Какое богатство языка! Какое разнообразие! Какое – я бы сказал – своеобразие! Эта пьеса войдет в золотой фонд нашей литературы хотя бы по своему языковому богатству! Ура! (Кто-то подхватил, поднялись аплодисменты.)
– Кто у нас теперь? – сказал председатель. – Ах, товарищ Булгаков. Прошу.
Миша встал, но не сошел со своего места, а начал говорить, глядя на Раскольникова, сидящего перед ним:
– Д-да… Я внимательно слушал выступления предыдущих ораторов… Очень внимательно… (Раскольников вздрогнул.) Иван Николаевич Берсенев сказал, что ни одна пьеса в жизни его так не взволновала, как пьеса товарища Раскольникова. Может быть, может быть… Я только скажу, что мне искренне жаль Ивана Николаевича, ведь он работает в театре актером, режиссером, художественным руководителем, наконец, уже много лет. И вот, оказывается, ему всегда приходилось работать на материале, оставлявшем его холодным. И только сегодня… Жаль, жаль… Точно так же я не совсем понял Александра Яковлевича Таирова. Он сравнивал пьесу товарища Раскольникова с Шекспиром и Мольером. Я очень люблю Мольера. И люблю его не только за темы его пьес, за характер его героев, но и за удивительно сильную драматургическую технику. Каждое появление действующего лица у Мольера необходимо, обоснованно, интрига закручена так, что звена выкинуть нельзя. Здесь же, в пьесе т. Раскольникова (шея у Раскольникова покраснела), ничего не поймешь – что к чему, почему на сцену выходит это действующее лицо, а не другое. Почему оно уходит? Первый акт можно свободно выбросить, второй перенести… Как на даче в любительском спектакле!
Что же касается языка, его своеобразия… Вот, позвольте, я записал несколько выражений, особенно поразивших меня: «Он всосал с молоком матери этот революционный пыл…» Да… Ну, что же, бывает. Не удалась пьеса, не удалась…
После этих слов произошло то, что бывает на базаре, когда кто-нибудь первый бросит кирпич в стену.
Начался бедлам. Следующие ораторы предлагали действительно выкинуть какие-то сцены, действующих лиц…
Шея у Раскольникова стала темно-синей, налилась.
Я поднялся и направился к выходу. Почувствовав на спине холодок, обернулся и увидел ненавидящие глаза Раскольникова. Рука его тянулась к карману. «Выстрелит в спину»…»
Давид Александрович аккуратно сложил папиросные листочки: «Мне рассказывали, что драматург Всеволод Вишневский, прежде чем положить на стол редактора рукопись, доставал из кармана револьвер. Я уверен, что этот устный рассказ взят с натуры». Давид был любителем хорошей литературы. Он рассказал Тасе, что в журнале «Москва» напечатан последний роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Приехавшие к ним на отдых старые друзья Таси Каморские подтвердили это, говорили, что этот роман – явление мирового значения. Сердце Татьяны Николаевны наполнялось радостью и гордостью за Мишу, и пусть никто не знает, что она сделала для него, ее это не волнует. Она спасала мужа, выполняла долг жены, не заслуживающий никакой общественной награды. А Миша ценил ее, не хотел уходить, забыв, что у нее есть своя гордость, что она не хотела, не могла делить его с другой женщиной.
Давид Александрович умер на девяностом году жизни.
Татьяна Николаевна осталась одна с ничтожной пенсией в 28 рублей, положенной ей за потерю кормильца. Как-то пропившийся отдыхающий за бутылку водки отдал ей роман «Мастер и Маргарита». Она сразу же открыла книгу на последних страницах, интуитивно чувствуя, что здесь что-то написано про нее. Миша не мог уйти из жизни, не оставив ей прощального привета. Первая страница второй части романа заставила биться ее сердце: «За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви?»
«Нет! Мастер ошибался, когда с горечью говорил, что она забыла его. Этого не могло быть. Она его, конечно, не забыла… Возлюбленную звали Маргаритой Николаевной. Она была красива, умна… Маргарита Николаевна не нуждалась в деньгах… Могла купить все, что ей понравится… Никогда не прикасалась к примусу… Не знала ужасов житья в совместной квартире…»
Да, так было, когда она вышла замуж за Мишу… Дочь действительного статского советника… Отчество – Николаевна… У Миши ничего не бывает случайно. Она лихорадочно прочитывала страницу за страницей, мысленно отбрасывая места, связанные с необычным сюжетом, возможно, с подробностями жизни Елены Сергеевны. В главном Миша был прав – она не забыла его. «Она любила его, она говорила правду», – писал Миша о своей героине, и, как думала Татьяна Николаевна, именно о ней, в этом она не сомневалась, все более и более углубляясь в чтение романа.
«Я верую, – шептала Маргарита торжественно. – Я верую! Что-то произойдет! Не может не произойти, потому что за что же мне послана пожизненная мука?» И вот он объявился, пусть в романе, но вернулся, пришел к ней. Героине снится «местность – безнадежная, унылая, под нахмуренным небом ранней весны. Приснилось это клочковатое бегущее серенькое небо, а под ним беззвучная стая грачей, какой-то корявый мостик. Под ним мутная весенняя речонка, безрадостные нищие полуголые деревья, одинокая осина, а далее, меж деревьев, за каким-то огородом, бревенчатое здание, не то отдельная кухня, не то баня, не то черт знает что. Неживое все кругом какое-то и до того унылое, что так и тянет повеситься на этой осине у мостика… Вот адское место для живого человека!»