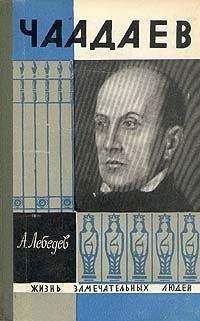Вспомним и такие пушкинские строки:
Увижу ли, друзья, народ не угнетенный
И рабство, падшее по манию царя?
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли, наконец, прекрасная заря?
«Эти самые стихи, — свидетельствует один из чаадаевских современников, — в печать, конечно, не допущенные, особенно полюбились императору Александру, и наш Чаадаев, списав своей рукой всю элегию, представил ее через своего генерала И. В. Васильчикова государю...»
Надежды на «добрые намерения» царя вообще были, как известно, весьма сильны среди декабристов и продекабристски настроенного русского дворянства той поры. Заметим в этой связи, кстати, что ведь и само восстание планировалось значительной частью декабристов лишь в случае, если бы русский престол не перешел бы к Константину, с которым по не вполне все-таки ясным причинам связывались некие реформистские надежды.
Правда, умный, внимательный, скептический Чаадаев, очень хорошо осведомленный в ту пору к тому же о настроении «верхов» (а через «своего» Васильчикова и о некоторых истинных намерениях правительства), вряд ли уж слишком надеялся на добрые намерения императора. Но прояснить роль Александра I перед лицом русского общества было делом исторически весьма и весьма желательным и своевременным.
Объективно такое прояснение лишь, конечно, способствовало радикализации прогрессивно настроенной части русского общества, активизации его революционной части.
Эта немаловажная историческая задача была, во всяком уж случае, Чаадаевым тогда выполнена. Ценой личной беды. Ценой уничтожения еще одной надежды у самого Чаадаева. И этот путь для воздействия на российскую действительность также отпал. Потом, позднее, на этот путь будут еще пытаться вступать и Герцен и даже Чернышевский; первый — питая некоторые иллюзии, второй — не имея на сей счет никаких иллюзий. Для Чаадаева он отпал уже в ту пору. В нем до некоторой степени сохранится лишь сожаление по поводу того, что, может быть, он несколько поспешил со своей отставкой. Но сожаления эти будут вызываться уже иными соображениями. Впрочем, мрачное воспоминание о своем визите в Троппау Чаадаев сохранит до конца жизни, дав тем самым пищу и предлог для новой сплетни: Чаадаев обиделся на царя. Нет, в этом случае пострадало, конечно, лишь «истинное» его честолюбие.
Итак, что же оставалось?
Оставалось еще непосредственное участие в тайном обществе декабристов.
Летом 1821 года Чаадаев дал свое согласие вступить в тайное общество. И даже посожалел, что не сделал этого раньше: можно было бы, не уходя в отставку, попытаться впрячь в декабристскую повозку великого князя Николая Павловича. Чаадаев не увидел в декабризме самостоятельной политической силы и, так и не заинтересовавшись как следует деятельностью тайного общества, уехал за границу.
Правда, как помним, Чаадаев был принят в тайное общество Якушкиным именно в тот момент, когда декабристы переживали организационный кризис и идейный разброд. С точки зрения самого Чаадаева, время для активных действий к тому моменту уже прошло. И Чаадаев, посожалев, что переговоры с ним о вступлении в тайное общество не состоялись раньше, с тяжелым сердцем уехал из России, чтобы никогда больше в нее не возвращаться. Последнее обстоятельство очень показательно: Чаадаев, стало быть, не собирался участвовать в деятельности тайного общества, и, уж во всяком случае, Сенатская площадь ему и не снилась. И сам Чаадаев в письмах к близким говорил, что уезжает навсегда, и близкий друг Якушкин был до такой степени уверен в этом, что на допросе после разгрома восставших спокойнейшим образом назвал Чаадаева в числе лиц, завербованных им в нелегальную организацию. Конечно, это была более чем неосторожность. Впоследствии Якушкин и сам это так именно и оценил: «Тюрьма, железа (кандалы. — А. Л.) и другого рода истязания произвели, — писал он, — свое действие, они развратили меня. Отсюда начался целый ряд сделок с самим собой, целый ряд придуманных мною же софизмов... Это был первый шаг в тюремном разврате... Я назвал те лица, которые сам комитет (следственный. — А. Л.) назвал мне, и еще два лица: генерала Пассека, принятого мною в общество, и П. Чаадаева. Первый умер в 1825 г., второй был в это время за границей. Для обоих суд был не страшен».
Несерьезно отнесшись к своему разговору с Якушкиным и своему вступлению в общество, Чаадаев все-таки спустя некоторое время оказался куда более зрелым и серьезным человеком, нежели его друг, не назвав на допросе никого, вообще ни словом не обмолвившись о том, что знал о деятельности общества. Впрочем, об этом дальше.
Надо сказать тут, что, считая время для активных действий уже упущенным, Чаадаев был не столь уж в этом своем взгляде на положение дел не прав, как это может показаться с первого взгляда.
Организационный кризис и идейный разброд, которые переживало декабристское движение в 1820— 1821 годах, были, конечно же, не только и, пожалуй, даже не столько симптомом роста и созревания этого движения. Дело обстояло несколько сложнее.
Основное содержание исторического момента, основной смысл времени заключался в ту пору в том, что революционная ситуация в Европе уже исчерпывалась, как мы говорили, революционный подъем надломился, история покатилась вправо. Судьба же русского революционного движения в двадцатых годах прошлого столетия была неотделима от судеб европейской революции, свидетельством чего, в частности, был и международный характер Священного союза. Редкий современник описываемых событий, редкий мемуарист не отмечает, что время, о котором мы тут толкуем, было временем очевидного перелома в общественной и политической жизни страны. В записи от 13 марта 1821 года П. А. Вяземский, вспоминая о событиях в Семеновском полку и о правительственной реакции на эти события, замечал: «Разве Священный союз не есть Варфоломейская ночь политическая? „Будь католик, или зарежу!“ „Будь раб самодержавия, или сокрушу“. Вот, — говорит Вяземский, — существенность того и другого разбоя». По мнению очевидцев, Варфоломеевская ночь реакции наступила не в 1825 году, а несколько раньше. Это существенно. Одно дело — революционное восстание в момент революционного подъема, другое — в эпоху спада революционного движения. Тут все по-разному: и резон для восстания и его результаты и последствия.
В России революционная ситуация, возникавшая было после войны 1812 года, так и не вызрев в силу ряда особенностей национальной истории в ту пору, о которой идет речь, успела уже вполне смениться явной реакцией, пришла аракчеевщина. И перелом в общественной и политической жизни страны случился, конечно же, не в 1825 году, а пятью целыми годами раньше. Чацкий у Грибоедова уже не победитель, не человек, предчувствующий победу или хотя бы готовящийся к решающим битвам, исход коих хотя бы уже предрешен, но человек гонимый, он уже в опале у общественного мнения своей социальной среды.
Декабристы не поторопились (как полагали многие из них и многие из их позднейших исследователей), а опоздали со своим выступлением на Сенатской площади. Отсюда и их общее почти настроение в самый момент восстания — тот странный мрачный фатализм, который поражает и до сих пор. Этот фатализм обреченности — сознание неизбежности гибели — психологически шел от чувства социального одиночества. «Страшно далеки» были, согласно ленинскому выражению, декабристы от народа9. Именно в этом обстоятельстве заключалась, коренилась, конечно, главная причина социальной ограниченности декабризма. Но к моменту своего выступления декабристы находились уже и в условиях непосредственной социальной изоляции: в обществе свирепствовала реакция, «Варфоломеевская ночь» уже наступила.
Сам по себе военный переворот (буржуазно-либеральный или даже буржуазно-демократический по своему объективному историческому смыслу и последствиям) в ту пору, о которой идет речь, ровным счетом ничего несбыточного в принципе собой не представлял. Такой переворот вполне мог бы удаться и во многом бы изменить к лучшему весь дальнейший ход русской истории. Но вот переворот такого сорта на фоне политической и общественной реакции, уже наступившей тогда в России, в условиях отката освободительного движения, в условиях угасания революционной активности общества становился, конечно, делом достаточно уже несбыточным, принимал черты авантюры.
Восстание декабристов в 1825 году было актом вынужденным.
Достаточно без предубеждения, без заранее принятой на веру мысли прочитать свидетельства большинства участников восстания, чтобы увидеть, как не готовы они были даже внутренне к нему, как они бросились в восстание просто потому, что представился случай. Этот случай им был представлен стечением обстоятельств, но не выработай ими самими. Период междуцарствия, наступивший на краткое время в тот момент (в витринах столичных магазинов уже были выставлены портреты Константина, хотя Константин не соглашался ехать на коронацию; Николай рвался получить трон, но Константин не заявлял о своем официальном отречении), был действительно уникальным поводом для восставших. Но всякий хороший повод — повод тогда лишь, когда есть достаточное основание. Мрачный фатализм декабристов — отражение и выражение их непроизвольности в восстании, политической несамостоятельности их решения выступить. Отсюда и чувство обреченности, отсюда и бесконечные колебания даже наиболее активных деятелей из их среды, отсюда, наконец, та поспешность, с которой они признавали себя побежденными, и то шокирующее своей неуместностью (и шокировавшее современников) чистосердечие их на первых же допросах.