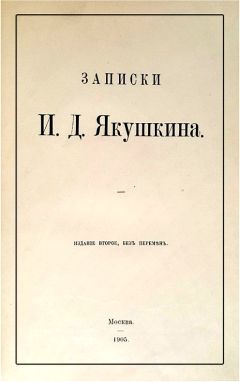Я настолько люблю сбрасывать с себя бремя каких бы то ни было обязательств, что порою заносил себе в прибыль различные проявления неблагодарности, нападки и непристойные выходки со стороны тех, к кому, по склонности или в силу случайного стечения обстоятельств, испытывал кое-какое дружеское расположение, ибо я рассматриваю их враждебные действия и их промахи как нечто такое, что полностью погашает мой долг и позволяет мне считать себя в полном расчете с ними… Итак, насколько я знаю толк в искусстве оказывать благодеяния и платить признательностью за те, что тебе оказаны, — а это искусство тонкое и требует большого опыта, — я не вижу вокруг себя никого, кто до последнего времени был бы независимее, чем я, и менее всего в долгу перед кем бы то ни было. Да и вообще, нет никого, кто был бы в этом отношении так же чист перед людьми, как я… Благодатная свобода, так долго ведшая меня по этому пути! Пусть же она ведет меня до конца!
Я стремлюсь не иметь ни в ком настоятельной необходимости… Тяжело и чревато всевозможными неожиданностями зависеть от чужой воли. Мы сами — а это наиболее надежное и безопасное наше прибежище — не слишком в себе уверены… Я питаю смертельную ненависть и к тому, чтобы от кого-либо зависеть, и к тому, чтобы искать у кого-либо поддержку, если этот кто-либо не я сам».
Мишель Монтень. Опыты…Нет, конечно, даже достаточно притерпевшегося к манере и жанру этой книги или даже хоть отчасти, быть может, даже и вошедшего во вкус этой манеры и жанра читателя, я не рискнул бы все-таки затруднить столь обширными выписками, если бы не дополнительные к тому обстоятельства, которые ниже я еще укажу. Но сперва по необходимости относительно некоторых общих в данном случае позиций.
«Несколько слов по поводу так называемого «индивидуализма», то есть по поводу взглядов каждого исторического периода на позицию индивидуума в мире и исторической жизни. То, что ныне называется «индивидуализмом», ведет начало от культурной революции, последовавшей за средневековьем (Возрождение и Реформация)… это переход от трансцендентной мысли к мысли имманентной.
Проанализировать предрассудки против индивидуализма, вплоть до повторения более чем критических иеремиад католиков и ретроградов. Антиисторическим стал ныне тот «индивидуализм», который проявляется в индивидуальном присвоении богатства, в то время как производство богатств все более социализируется…»
Антонио Грамши. Тюремные тетради«Какая вопиющая несправедливость утверждать, будто Монтень только и занимался тем, что комментировал древних авторов, между тем как в действительности он лишь цитирует их в соответствующих случаях… Он подкрепляет свои мысли рассуждениями великих мужей древности, он судит их, спорит с ними, разговаривает с ними, со своими читателями, с самим собой. Он всегда оригинален в показе вещей, всегда блистает воображением, он всегда художник, наконец, в нем есть то, что я люблю, — он всегда умеет сомневаться. Хотел бы я знать, мог ли он заимствовать у древних авторов то, что он говорит о наших нравах…»
Вольтер — графу
Трессану. 1746 г.
Вопрос о том, какие именно книги и каких авторов возбудили или способствовали возбуждению «свободного» или «превратного» образа мыслей, был обязательным в «вопросных пунктах» Следственного Комитета, даваемых подследственным декабристам. В самой постановке такого рода вопроса содержалось признание того, что сражение за овладение великим культурным наследием самодержавие проиграло и что оно уже осознало этот факт, как осознало и то, что это культурное наследие стало духовным и даже политическим оружием в руках декабристов. В ответах подследственных — имена Вольтера и Руссо, иных французских просветителей, но чаще всего имена представителей античной культуры, историков античности, прежде всего Плутарха. Плутарха и иных античных авторов декабристы получили, можно сказать, как раз из рук Монтеня. В ту пору Монтень во многом оказался связующим звеном и посредником в преемственной связи культурно-исторических времен, через него в значительной мере шла дорога, соединявшая юные идеи декабристов с классическими традициями свободомыслия. Но не только в том было его значение, что он умел перевести античную мысль на язык французского Просвещения, сделав ее доступной и внятной последующим культурным поколениям. Он был представителем того свободного «самомышления» (используя выражение Герцена), которое само побуждало к такому же типу мышления, к суверенности собственного образа мыслей, к тому, чтобы иметь свой взгляд на вещи, а не разделять готовые мнения и общие взгляды, которое утверждало человека в праве на свой, личный образ мысли. А это было важно и имело огромные последствия во всем дальнейшем развитии русской мысли. Нет ничего удивительного в том, что «руссоист» Лев Толстой был почитателем Монтеня и что знаменитые «Опыты» были его настольной книгой, которую он перечитывал всю жизнь. Но удивительно, как четко, «безошибочно» история общественной мысли зачастую особыми знаками отмечает глубокое свое течение, свое «внутреннее русло».
«Я никак не припомню, чтобы кто-нибудь именно или чтение каких-нибудь книг исключительно возбудили во мне свободный образ мыслей».
Из ответов
И. Д. Якушкина на «вопросные пункты» Следственного Комитета
У Якушкина свободный образ мыслей был уже в крови, не ощущался как привнесенный элемент и не был таким элементом. В крови был уже, скажем, и Монтень с его смеющимся скептицизмом и неколебимой независимостью стоического жизнеутверждения.
Вскоре после объявления приговора и совершения казни Якушкина вместе с некоторыми другими осужденными отправили поначалу в Финляндию в Роченсальмскую крепость. Дело было в августе 1826 года. Около Петербурга горели леса, «солнце, — пишет Якушкин, — виднелось сквозь дым, покрывавший город и его окрестности, как обгорелая головня; ночью же ни зги не было видно». Бедствие в окружающей природе как бы нарочно подчеркивало мрачную сторону событий, служило им фоном. Но Якушкин словно знал, что самое тяжкое нравственное испытание позади, словно чем-то уже был огражден от всех удручающих впечатлений окружающего бытия. Так и будет потом с ним всегда, на всю жизнь. «Переезд от Петербурга до места нашего заключения был для нас приятной прогулкой… По приезде на каждую станцию живой разговор между нами имел также свою увлекательность». Это — стиль Якушкина. Потом, во время «противувольных» своих странствий по Сибири, к местам своего заточения, а позже — на поселение в Ялуторовск, Якушкин, отмечая, к примеру, что в термометре «ртуть стынет», не пропустит случая сказать о красоте окружающего пейзажа. По дороге в Роченсальм у Якушкина произошел вроде бы и шутливый, но важный разговор с Александром Бестужевым. «Я старался доказать ему, что несостоятельность наша произошла от нашего нетерпения, что истинное наше назначение состояло в том, чтобы быть основанием великого здания, основанием под землей, никем не замеченным: но что мы вместо того захотели быть на виду для всех, захотели быть карниз. «И потому упали вниз», — сказал наш фельдъегерь, стоявший сзади меня и о присутствии которого мы совершенно забыли… Мы все расхохотались».
Заключенных содержали скверно — холод и голод едва не погубили их тут же. Да и вообще надо было уже набираться навыков новой жизни.
«Книг у нас было очень мало… Я имел возможность захватить с собой только Монтеня». Печать была мелкая, читать было трудно — в каземате не хватало света, страдали глаза.
21 сентября 1835 года Пушкин, находясь в плохом настроении, в тоскливых мыслях о бытовых невзгодах семьи, о своем вынужденном одиночестве, писал жене: «…Кстати: пришли мне… 4 синих книги, на длинных моих полках. Отыщи». Речь шла об «Опытах» Монтеня.
Лев Толстой просил свою дочь прислать ему Монтеня после ухода из Ясной Поляны.
Под Роченсальмом — в крепости Форт-Слава, построенной еще по приказу Суворова, где Якушкин вместе с некоторыми другими своими товарищами находился до Сибири, Александр Бестужев на каких-то клочках бумаги писал повесть в стихах «из времен, весьма древних, русской истории» «Андрей Переяславский». Якушкин потом вспоминал: «Стих его был вял, и повесть вообще не удалась. За критику его скороспелого произведения он не сердился, но впрочем защищал его усердно; вообще он был добрый малый… Бывали с ним мрачные минуты, в которые он был уверен, что мы никогда не съедем с Форт-Славы или что если бы мы даже и возвратились на свободу, то наше положение было бы незавидно по той причине, что на нас все смотрели бы с невыгодной стороны; а я ему в утешение говорил напротив, что мы долго не останемся на Форт-Славе и что если бы мы когда-нибудь возвратились на свободу, то нам надо опасаться, чтобы на нас не смотрели лучше, нежели мы того стоим. Не знаю, — добавляет Якушкин в своих знаменитых «Записках», — вспомнил ли он мое предсказание на Кавказе, когда его литературные произведения имели такой огромный успех и которым он частью, конечно, был обязан положению, в котором он находился».