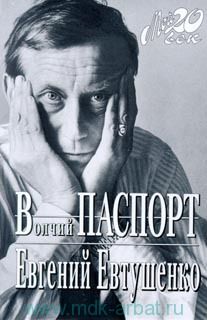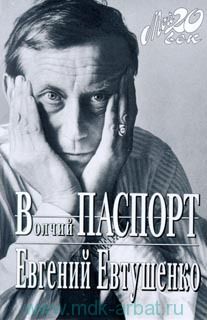Плохие отметки у меня всегда были по устному русскому. Писал я почти без ошибок, и мне казалось бессмысленным заучивать грамматические правила, если я и так пишу правильно.
Уже в школе начиналась – конечно, только в зародышевой форме – дифференциация моего поколения. За школьными партами сидели маленькие правдоискатели, маленькие герои, маленькие циники и маленькие догматики.
Я уже тогда не любил бездельничающих циников, иронически издевающихся надо всем и всеми, но точно так же терпеть не мог бессмысленно трудолюбивых тихонь, принимающих все на веру.
Сидя за партой под портретом Сталина, я жадно вглядывался в окно, где в воздухе медленно кружились белые хлопья.
И я удирал в другую школу – шумную школу города, где пахло снегом, сигаретами, бензином и дымящимися пирожками, которые продавали раскрасневшиеся от мороза лоточницы.
Возвращаясь домой, я садился за письменный стол, прилежно раскладывал ученические тетради, и, как только довольная мной мама оставляла меня, я писал стихи, пытаясь придумать в них себе какую-то другую жизнь. Я переставал писать стихи только тогда, когда рука уже совершенно онемевала. В день иногда я писал по 10–12 стихотворений. Я бомбардировал своими стихами все редакции и неизменно получал отказы. Представляю себе, что подумала редакция «Пионерской правды», получив от школьника такого рода стихи:
Текла моя дорога бесконечная.
Я мчал, отпугивая ночи тень.
Меня любили вы, подруги встречные,
Чтоб позабыть на следующий день.
Однажды я собрал все свои стихи в большую тетрадь и послал их в редакцию издательства «Молодая гвардия».
И наконец получил ответ с просьбой зайти. Подписано письмо было поэтом Андреем Досталем. Я зашел.
Андрей Досталь, худощавый молодой человек с повязкой на глазу, делавшей его похожим на пирата, удивленно спросил:
– Вы к кому, мальчик?
Я показал ему письмо.
– А ваш папа, должно быть, болен и сам не смог прийти? – спросил Досталь.
– Это я написал, а не мой папа, – нервно ответил я, судорожно сжимая в руках школьный портфель.
Досталь недоуменно посмотрел на меня. Потом расхохотался:
– Здорово же вы меня провели. Я рассчитывал увидеть убеленного сединами мужчину, прошедшего огонь и воду и медные трубы. У вас же в стихах и война, и страдания, и любовные трагедии…
Находившиеся в комнате люди тоже смотрели на меня и улыбались.
Мне казалось, что надо мной потешаются. Мои глаза медленно наливались слезами.
Но Досталь, почувствовав это, обнял меня, усадил рядом и стал говорить мне о присланной тетради. Впоследствии мы подружились с ним. Он сам был небольшим поэтом, но любил поэзию и хотел видеть во мне то, что не смог осуществить сам. Вообще, в моей поэтической биографии мне помогли именно небольшие поэты. Они часто внимательнее, нежнее «больших». Но напечатать стихи мне все же не удавалось.
Однако на моем столе всегда лежал «Мартин Иден» Джека Лондона, и его первые страницы были для меня вдохновением и помощью. Тогда самым главным в «Мартине Идене» для меня были первые страницы. Теперь – последние.
Мама не хотела, чтобы я стал поэтом.
Не потому, что она не разбиралась в поэзии, а потому, что твердо знала одно: поэт – это что-то неустроенное, неблагополучное, мятущееся, страдающее. Трагическими были судьбы почти всех русских поэтов: Пушкин и Лермонтов были убиты на дуэли, жизнь Блока, сжигавшего себя в угарных ночах, в сущности, была самоубийством, повесился Есенин, застрелился Маяковский. Мама не говорила мне, но, конечно, знала и о гибели многих поэтов в сталинских лагерях. Все это заставляло ее бояться моего будущего поэтического пути, заставляло рвать мои тетради со стихами и уговаривать меня заняться чем-нибудь, по ее выражению, более серьезным.
Но самым серьезным мне казалось именно это.
И я продолжал писать с упорством маленького сумасшедшего.
…Я сражался в школе с ябедами, подхалимами, любимчиками.
Я быстро снискал себе репутацию хулигана. После седьмого класса меня перевели в новую школу, куда учителя сбывали с рук нерадивых учеников со всей Москвы. В ней я проучился недолго, ибо я выделялся даже там своими мятежами.
Я некоторое время пытался скрыть от мамы факт своего исключения из школы, зная, как это ее огорчит, но мне это не удалось. Мама в слезах настаивала, чтобы я шел к директору просить о снисхождении, сама хотела идти куда-то, но я был горд.
Я поехал к отцу в Казахстан.
Мне было пятнадцать лет.
Я хотел стать самостоятельным человеком.
Отец работал тогда начальником одной из геологоразведочных экспедиций.
Он посмотрел на меня, исхудавшего, оборванного, и сказал: «Ну вот что… Если ты действительно хочешь стать самостоятельным человеком, никто не должен знать, что я твой отец».
Я стал рабочим в геологоразведочной экспедиции.
Я научился долбить землю киркой, выкалывать молотком из породы плоские, как ладонь, образцы, расщеплять бритвой на три части оставшуюся единственную спичку и разводить костер во время дождя.
Я вернулся к маме загорелый и возмужавший.
После того как она встретила меня на вокзале, мы ехали с ней в трамвае и сбивчиво говорили о чем-то.
Вдруг я увидел, что все пассажиры удивленно смотрят на меня, а мама плачет.
Оказывается, в разговоре с мамой я по инерции употреблял сочные непереводимые выражения, на которые в моем прежнем кругу никто не обращал внимания.
Но мама плакала.
И с той поры я никогда больше не ругаюсь. Почти никогда…
Когда мы приехали домой, я распорол брюки, в которых были зашиты честно заработанные деньги, и бросил их на стол.
– Как хорошо, что у нас теперь есть деньги, – сказала мама. – Мы наконец сможем сделать ремонт квартиры.
– Нет, мама, – сказал я твердо. – На эти деньги я куплю себе пишущую машинку.
– Какой ты стал жадный, – горько сказала она.
– Подожди немного, мама. Эта машинка отремонтирует нам квартиру, – ответил я.
И, не учась нигде, я продолжал бешено писать и снова бомбардировать редакции стихами. Но пишущая машинка не помогала – стихи не печатали. Кроме того, у меня была еще одна страсть – футбол.
Ночью я писал стихи, а днем играл в футбол – во дворах, на пустырях. Я возвращался в изодранных ботинках, в разорванных брюках, из которых торчали кровоточащие коленки. Самым упоительным звуком мне казался звук удара по кожаному мячу.
Обвести множество противников неожиданными финтами и дриблингами, а затем всадить «мертвый» гол в сетку мимо беспомощно растопыренных рук вратаря – все это казалось мне, да и продолжает казаться до сих пор, очень похожим на поэзию.
Футбол меня многому научил.
Потом я стал играть вратарем, и это научило меня не только нападать, но и зорко следить за малейшими движениями противников и предугадывать, когда эти движения обманны.
Это впоследствии помогло мне в моей литературной борьбе…
В футболе во многом легче. Если ты забил гол, тому есть прямое доказательство – мяч в сетке. Факт, как говорится, неоспорим. (Правда, и тут судьи могут не засчитать гол, но все-таки это исключения.) Если ты забиваешь поэтический гол, то чаще всего раздаются тысячи судейских свистков, объявляющих этот гол недействительным, и доказать ничего невозможно.
И очень часто удары мимо ворот официально объявляются голами.
Спорт, несмотря на все махинации и грязь, вообще более чистая штука, чем литература.
И мне иногда очень жаль, что я не стал футболистом.
А я им чуть-чуть не стал.
В одном из матчей мальчишеских команд я особенно отличился. Я взял подряд три пенальти. После матча ко мне подошел тренер одной знаменитой команды и попросил зайти «на пробу». Все мальчишки отчаянно завидовали мне.
Но произошло одно событие, которое определило мою судьбу.
Я давно собирался отнести свои стихи в редакцию газеты «Советский спорт». Кажется, это была единственная газета, куда я еще ни разу не посылал своих опусов.
Я пришел туда после матча, в выцветшей синей майке, спортивных шароварах, рваных тапочках. В руках у меня было стихотворение, где подвергались сравнительному анализу нравы советских и американских спортсменов. Стихотворение было написано «под Маяковского».
Редакция «Советского спорта» помещалась в большой комнате на Дзержинке, где в табачном тумане несколько мистически вырисовывались какие-то стучащие на машинке, скрипящие авторучками, шуршащие гранками фигуры.
Я робко спросил, где отдел поэзии. Из тумана мне рявкнули, что такого отдела вообще нет.
Но вдруг из тумана высунулась рука, добро легла мне на плечо, и чей-то голос спросил:
– Стихи? Покажите мне, пожалуйста…
Я сразу поверил этой руке и этому голосу.
И не ошибся.
Передо мной сидел черноволосый человек лет тридцати с красивыми восточными глазами. Звали его Николай Александрович Тарасов. Он заведовал сразу четырьмя отделами: иностранным, партийным, футбольным и литературным.