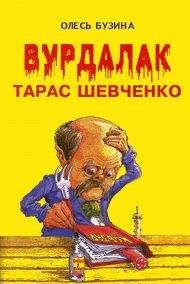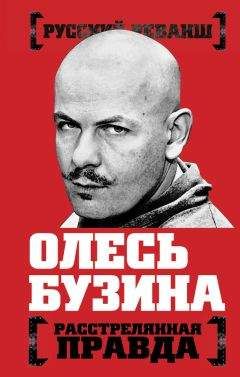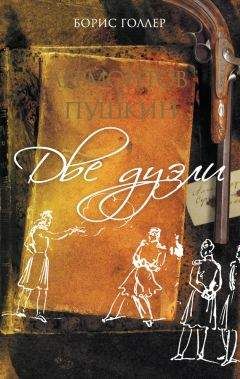Нет, это была и наша Империя, что отразилось и в царском титуле – «всея Великая и Малая, и Белая». Точно так же, как в полном названии другой короны до сих пор красуется: «Объединенное королевство Великобритании, Шотландии и Северной Ирландии».
Ни замалчивать, ни стыдиться своего имперского прошлого у нас нет смысла. Оно было прекрасно.
Свидетельством чему – бессмертная «Энеида».
* * *
По вечерам я люблю выходить к памятнику Шевченко напротив Университета, носившего некогда имя князя Владимира. Тяжелый, с набыченной головой, с отвисшими усами, Тарас напоминает воскресший идол языческого Перуна. Именно этого бога сверг когда-то в Днепр креститель Руси. Почему-то никому в голову не приходит символическая связь между этими событиями. Имени Владимира Университет лишили большевики. Они же установили культ Шевченко и этот перуноподобный истукан в сквере. Они же по-гайдамацки щедро оросили Украину кровью. Древний Перун словно воскрес в культе Шевченко.
Живой Тарас всегда притягивал к себе энергию окружающих. О нем заботились. Его выкупали из крепостной неволи. Учили. Слали деньги. Вытаскивали из армии. Сам он не мог ничего. Нет ничего удивительного, что Украина теперь повторяет его судьбу, жалуясь, плача, клянча кредиты и ожидая чуда. Ведь для нее он тоже стал языческим богом. Как сказочный вурдалак, Шевченко по-прежнему пьет из нас энергию, требуя поклонения. Но он уже все сказал и ничего не знает о грядущем, кроме того, что «буде син, i буде мати, i будуть люди на землi».
Честно говоря, это и без него было известно. Пора взглянуть на этого человечка, чей рост был всего лишь 164 см, без искажающей масштаб подставки постамента.
Он был «мобилизован» большевиками почти сразу же после захвата власти. Памятник ему, как «великому деятелю социализма», был по распоряжению Ленина втиснут в Москве уже в 1918 году. Жестокость послереволюционной действительности превосходила все испытанное страной доселе. Поэтому новому режиму, расстрелявшему за тридцать лет поэтов больше, чем их родилось в России за три столетия царствования династии Романовых, понадобился миф, что где-то в далеком прошлом якобы бывали времена еще более жестокие. Что это за жестокость, старались не уточнять. Ибо невозможно, будучи в здравом рассудке, поверить, что три дня николаевской барщины – хуже ежедневной (без выходных!) работы в передовом сталинском колхозе. Как невозможно поверить и в то, что розги, которыми однажды, по приказу пана, угостили на конюшне Тараса, ужаснее ликвидации кулачества «как класса».
Нынешней Украине он нужен по той же причине. Когда зарплату не выплачивают месяцами, а в домах отключают свет, нет ничего утешительнее баек о крепостном праве, во времена которого света не было вообще. Между тем, военные потери всей Российской Империи «бездарного, реакционного» Николая І в Крымской войне (310 тысяч) в восемь(!) раз меньше, чем потеряла без всякой войны Украина за десять лет независимости.
Можно, конечно, сказать, что Шевченко в этом не виноват. Что он не жаждал обожествления. Что вдохновенно выводя в завещании: «І вражою злою кров'ю волю окропiте» он имел в виду что-нибудь совсем другое, какой-нибудь очередной поэтический образ, вроде клюквенного сока.
Но, господа, отчего же мы удивляемся, что у этой воли получилось такое омерзительное, заляпанное кровью лицо?
Скандальные воспоминания о Т. Г. Шевченко его современников
«Кобзарь» за счет крепостника
(Эпизоды из жизни Шевченко по воспоминаниям Петра Мартоса)
Шевченко я знал коротко. Я познакомился с ним в конце 1839 года в Петербурге, у милого доброго земляка Е. П. Гребенки, который рекомендовал мне его как талантливого ученика К. П. Брюллова. Я просил Шевченко сделать мой портрет акварелью, и для этого мне надобно было ездить к нему. Квартира его была на Васильевском острове, состояла из передней, совершенно пустой и другой, небольшой, с полукруглым вверху окном, комнаты, где едва могли помещаться – кровать, что-то в роде стола, на котором разбросаны были в живописном беспорядке принадлежности артистических занятий хозяина, разные полуизорванные, исписанные бумаги и эскизы, мольберт и один полуразломанный стул, комната, вообще, не отличалась опрятностью: пыль толстыми слоями лежала везде; на полу валялись тоже полуизорванные исписанные бумаги, по стенам стояли обтянутые на рамах холсты – на некоторых были начаты портреты и разные рисунки. Однажды, окончив сеанс, я поднял с пола кусок исписанной карандашом бумажки и едва мог разобрать четыре стиха:
Червоною гадюкою
Несе Альта вiстi.
Щоб летiли круки з поля
Ляшкiв-панкiв їсти.
Що се таке, Тарас Григорьевич? – спросил я хозяина – Та се, добродiю, не вам кажучи, як инодi нападуть злиднi, то я пачкаю папiрець, – отвечал он. – Так що ж? Се ваше сочинениє? – Эге ж! – А багато у вас такого? – Та є чималенько.
– А де ж воно? – Та отам пiд лiжком у коробцi. – А покажiть.
Шевченко вытащил из-под кровати лубочный ящик, наполненный бумагами в кусках, и подал мне. Я сел на кровать и начал разбирать их, но никак не мог добиться толку.
Дайте менi оцi бумаги додому, – сказал я, – я їх прочитаю. – Цур йому, добродiю! Воно не варто працi. – Нi, варто – тут щось дуже добре. – Йо? чи ви ж не смiєтесь iз мене?
– Та кажу ж, нi. – Сiлькось, – возьмiть, коли хочете; тiльки, будьте ласкавi, нiкому не показуйте й не говорiть. – Та добре ж, добре!
Взявши бумаги, я тотчас же отправился к Гребенке и мы, с большим трудом, кое-как привели их в порядок и, что могли, прочитали.
При следующем сеансе я ничего не говорил Шевченко об его стихах, ожидая, не спросит ли он сам о них, – но он упорно молчал; наконец я сказал:
– Знаете що, Т. Г.? Я прочитав вашi стихи – дуже, дуже добре! Хочете – напечатаю?
– Ой, нi, добродiю! не хочу, не хочу, далебi що не хочу! Щоб iще побили! Цур йому!
Много труда стоило мне уговорить Шевченка; наконец он согласился и я, в 1840 году, напечатал Кобзаря. При этом не могу не рассказать одного обстоятельства с моим цензором.
Это был почтенный, многоуважаемый Петр Александрович Корсаков.
Последняя пьеса в «Кобзаре» (моего издания) – «Тарасова ночь». С нею было наиболее хлопот, чтобы привести ее в порядок. Печатание приближалось уже к концу, а она едва только поспела. Поскорее переписавши ее, я сам отправился к Корсакову, прося его подписать ее.
– Хорошо! сказал он, – оставьте рукопись и дня через два пришлите за нею. – Нельзя, П. А. в типографии ожидают оригинала. – Да мне теперь, право, некогда читать. – Ничего – подпишите, не читавши; все же равно – вы не знаете малороссийского языка. – Как не знаю! – сказал он обиженным топом. – Да почему же вы знаете малороссийский язык? – Как же! Я в 1824 году проезжал мимо Курской губернии. – Конечно, этого достаточно, чтобы знать язык, и я прошу у вас извинения, что усомнился в вашем знании, но, ей Богу, мне некогда ждать; пожалуйста, подпишите скорее, – повторяю, в типографии ожидают оригинала. – А что, тут нет ничего такого? – Решительно нет.