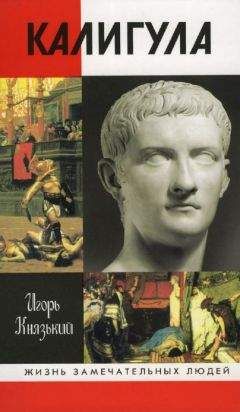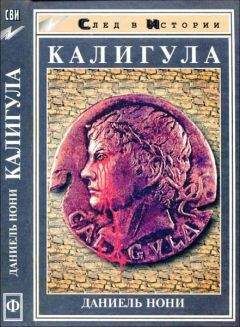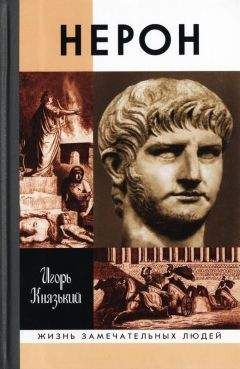Тем временем мятежные настроения проникли и в среду вексиллариев ранее бунтовавших легионов. Префект лагеря, где располагались мятежники, Маний Энний счел необходимым не идти на какие-либо уступки и не ждать помощи от главнокомандующего, но на свой собственный страх и риск воздействовать на разгоряченные головы бунтующих холодным душем устрашающего примера: двое легионеров были немедленно казнены в назидание всем, кем овладели мятежные настроения. Строго говоря, права казнить, что называется, на месте доблестный Энний не имел, но он решил действовать по обстановке, не без оснований полагая, что ничто лучше устрашающего примера бунтовщиков не усмирит. Мятеж действительно немедленно прекратился, но вскоре, однако, вспыхнул с новой силой. Растерявшиеся было мятежники быстро осознали, что Маний Энний находится в гордом одиночестве и ни на какую силу, кроме своих властных полномочий, и то вопиюще превышенных, не опирается. Энний, видя, что на сей раз воздействовать силовыми методами на бунтующих невозможно, счел за благо бежать и укрыться в надежном убежище. Такового, увы, не нашлось. Мятежники обнаружили своего беглого префекта, и теперь жизнь Мания Энния висела на волоске. Скороспелая расправа над двумя мятежниками грозила ему лютой смертью от рук товарищей казненных. Отчаянное положение диктовало и отчаянную отвагу, единственное, что могло спасти жизнь префекта. Маний, не теряя присутствия духа, грозно воскликнул, что бунтующие наносят оскорбление не ему, префекту, но своему полководцу Германику и императору Тиберию. Обступившие префекта мятежные воины растерялись, ибо не полагали себя бунтовщиками против высшей власти. Пользуясь их растерянностью, Маний Энний схватил штандарт легиона и двинулся с ним к Рейну, крича, что всякий, кто покинет ряды и не пойдет за ним, будет объявлен дезертиром. Разозленные, но не смеющие более бунтовать ветераны-вексилларии послушно последовали за своим военачальником в зимний лагерь, куда явились вполне усмиренными. Вот так решимость и отвага одного человека, вовремя нашедшего нужные слова и не только не выказавшего страха перед мятежной толпой, но и сумевшего ей пригрозить, предотвратили очередной кровавый мятеж.
Но мятежные настроения в рейнских легионах никак не хотели утихать…
Новым толчком к очередным беспорядкам стал приезд в ставку Германика уполномоченных сената из Рима. Здесь рядом с зимними лагерями 1-го и 20-го легионов располагались новые вексилларии — только что переведенные в этот разряд ветераны, обязанные своим переводом как раз случившемуся мятежу и вырванным благодаря ему уступкам. Узнав о прибытии сенаторов, они не могли не забеспокоиться, поскольку решили, что задача посланцев сената как раз и заключается в том, чтобы отобрать у них все то, что они сумели отстоять. Убежденные в том, что сенатская комиссия прибыла исключительно для того, чтобы их покарать, вексилларии пришли в ярость, и бунт разгорелся с новой силой. Среди ночи мятежники врываются в дом Германика, чтобы добыть свой штандарт, там хранящийся. К главнокомандующему они не испытывают уже ни малейшего почтения, более того, открыто угрожают ему смертью и вынуждают отдать штандарт. Затем мятежники рассыпаются по всему лагерю, встреченных посланцев сената осыпают оскорблениями, главе делегации, консуляру (бывшему консулу) Мунацию Планку, грозят расправой. Злосчастный посланец сената вынужден искать спасения под защитой святынь, укрывшись в лагере 1-го легиона и обняв священные символы — значки легиона и орла. Но даже здесь его едва не настигла ярость мятежников. Спасителем консуляра стал орлоносец — носитель изображения орла — Кальпурний, с трудом предотвративший кровавое святотатство: ведь человек, обнимающий священные символы легиона, считался неприкосновенным.
Наутро Германику удалось несколько успокоить легион, объяснив воинам истинную цель прибытия посольства сената: сенаторы должны разобраться в происшедшем, но не имеют полномочий карать кого-либо. Очередной укор в позорном поведении скорее привел легионеров в некоторое замешательство, нежели способствовал их усмирению. Главным достижением Германика стала отправка сенатской комиссии из лагеря под надежной охраной отряда конницы. Но до полного успокоения было еще далеко…
Сознавая это, окружение Германика стало открыто порицать своего командующего, находя его поведение неуверенным и снисходительным к мятежникам. Германика упрекают в том, что он не отправляется к надежному верхнегерманскому войску, с помощью которого можно решительно подавить бунт мятежных легионов на Нижнем Рейне. Все действия полководца, направленные на усмирение бунтовщиков, объявляются чрезмерной уступчивостью. Ведь очевидно, что ни увольнение ветеранов, ни денежные выплаты не привели к восстановлению порядка в мятежных легионах. Германику напоминают, что при нем находятся беременная жена и малолетний сын. Если уж он не дорожит собственной жизнью, пусть сохранит для государства хотя бы их жизни. Малолетний сын — это и есть наш герой, Гай Юлий Цезарь, уже получивший от воинов, среди которых он вместе с отцом и матерью находится, то самое прозвище, с каковым он и войдет в историю, — Калигула. Так двухлетний Гай впервые оказывается в гуще исторических событий, которые окажут самое непосредственное влияние на его будущую жизнь и судьбу.
Германик, убежденный своими приближенными в необходимости удалить семью из мятежного лагеря, наталкивается, однако, на сопротивление своей супруги. Гордая внучка божественного Августа и достойная дочь славного Агриппы была упорна до упрямства, никогда не забывала о своем высоком происхождении, открыто гордилась им и всегда стремилась поступать соответственно ему. «Никогда не мирившаяся со скромным уделом, жадно рвавшаяся к власти и поглощенная мужскими помыслами, она была свободна от женских слабостей»{44} и потому чувствовала себя в военном лагере как в родной стихии. Страха перед воинами дочь великого полководца никогда не испытывала, и убедить ее в перемене ситуации было весьма нелегко. На все уговоры Агриппина гордо заявляла, что внучка божественного Августа не отступает перед опасностями. И лишь только когда Германик, обнимая маленького Гая, со слезами обратился к ней, она уступила. Зрелище покидающей лагерь жены полководца, беременной, несущей на руках двухлетнего сына, не могло не произвести сильного впечатления на легионеров.
«Вид Цезаря (Германика. — И. К.) не в блеске могущества и как бы не в своем лагере, а в захваченном врагом городе, плач и стенания привлекли слух и взоры восставших воинов: они (Агриппина и ее окружение. — И. К.) покидают палатки, выходят наружу. Что за горестные голоса? Что за печальное зрелище? Знатные женщины, но нет при них ни центуриона, ни воинов для охраны, ничего подобающего жене полководца, никаких приближенных; и направляются они к треверам (одно из галльских племен, проживавших неподалеку от расположения римского войска. — И. К.), полагаясь на преданность чужестранцев. При виде этого в воинах просыпаются стыд и жалость: вспоминают об Агриппе, ее отце, о ее деде Августе; ее свекор — Друз, сама она, мать многих детей, славится целомудрием, и сын у нее родился в лагере, вскормлен в палатках легионов, получил воинское прозвище Калигула, потому что, стремясь привязать к нему простых воинов, его часто обували в солдатские сапожки»{45}.