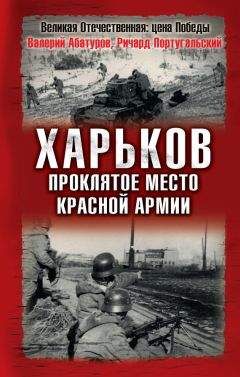— Давай сюда, нальем его снова.
— А как ты его набираешь так быстро?
— Думать надо, Цыпленок, думать. Я сделал складку в палатке между коленями, поставил под нее котелок, и вода стекает в него лесным ручьем.
— Понятное дело. А я, болван, поставил свой котелок просто так на землю. Думать надо, думать!
Дождь стих так же быстро, как и начался.
— Добрый вечер, — Эрнст показал на лужи. — Как раз приглашают в них выспаться.
— Пессимист! Вечно ты ворчишь.
— Ты прав, Цыпленок. Или напьешься, или выспишься. И то и другое сразу не получится.
Некоторое время они сидели молча. Эрнст отряхивал свою плащ-палатку, потом снова сел и свернул две цигарки. Блондин осматривал округу. Его взгляд остановился на цепи холмов, которые темной массой, почти угрожающе закрывали горизонт.
— Знаешь песню «Пусть развевается черное знамя?»
Эрнст прикурил в укрытии из обеих рук две сигареты и протянул одну Блондину.
— Что ты опять болтаешь? Черное знамя? Это что такое?
Блондин кивнул на холмы:
— Как раз вспомнил последний стих: «В лесу на горе ночует смерть. Кто знает, рано поутру сразит она меня, с собой ли уведет…»
— Типично! Ты посмотрел на какие-то холмы и вспомнил про Крестьянскую войну. Это из Бюндишен, да? А там на них сидит иван, думаешь ты, а мы должны будем его завтра на заре выбить с них? Так? — Он отрицательно покачал головой, как будто хотел сказать: «Бессмысленно, совершенно напрасно разговаривать с этим глупцом», а вслух сказал:
— Нет, Цыпленок, атаковать мы их не будем.
— А откуда ты знаешь?
— А потому что обычно так не бывает. — Эрнст поднес кулак к его лицу. — Во-первых, мы — не первые. Перед нами шел первый полк! — Его большой палец отогнулся вверх. — Во-вторых, артиллерия ушла вперед! — Отогнулся указательный палец. — В-третьих, что значит большое количество танков впереди? — Средний палец образовал с указательным букву V. — Боеприпасов у нас еще недостаточно, их подвезут только ночью, и… — У него возникли трудности с безымянным пальцем, так как он и мизинец уже отогнул. — И жратва-а-а! Без маргарина — героям гибель! Идешь отлить?
Свежесть солдатам приносили гроза и проливные дожди.
Они стояли рядом.
— Сейчас опять припрет.
— Ну, ты же напился как верблюд!
Они пошли к своим ячейкам.
— Смешно, последняя ночь перед наступлением.
— А на войне каждая ночь смешная, потому что не знаешь, доживешь ли до рассвета!
— Эрнст, я тебя, еще когда ехали, спрашивал. Знаешь ли ты, когда все молчали, я думал о страхе, о тянущем ощущении в желудке, о тошноте. Тебе хочется тошнить, но ты не можешь. Я об этом думал.
— Эти твои мысли чем-нибудь помогли?
— Нет. Но это именно так. Чертово неприятное ощущение в желудке вызывает всякие дрянные мысли. Кроме того, я пришел к выводу, что всё, до сих пор написанное о войне, — полная чушь.
— Я это тебе и так сказать мог, и не раздумывая полночи.
— Чепуха! Все не так. Чушь, потому что что-то очень существенное забывают или просто сознательно выбрасывают.
— Ты подразумеваешь страх.
— Да! Когда ехал в Берлин, вспоминал про военные книги. Нигде не описывается страх. Я думаю, что в так называемой патриотической военной литературе для этого не было места, но и в другой — у моего деда было несколько антивоенных книг, — и в них ничего нет про страх. Заветы, обвинения, отречение. Но чтобы хоть раз какой-нибудь писатель уселся, чтобы описать совершенно примитивный, трясущий страх, перед боем проходящий у одного или многих бойцов через башку…
— Или через желудок.
— Точно, Эрнст. Такие, как мы — сидим под дождем, курим, знаем, что завтра начнется, и у нас от этого тянет желудки. О чем мы думаем? Что мы делаем? Ждем, ждем — а что это такое? Страх — ждать — надеяться, часами, днями. Снаружи — одетый в красивую маскировочную куртку, вооруженный автоматом бравый солдат войск СС, а внутри — трясущаяся кучка страха!
— Да, мой Цыпа. Страх — такое дело, — Эрнст начал философствовать. Наряду с закуской это было его любимым занятием. — Речь идет скорее не совсем о страхе, а об ответе на вопросы: «Почему?» и «Перед чем?» — Всегда, когда он начинал гнуть свою линию, он переходил с диалекта на литературный немецкий. — Первичным фактом является завтрашнее наступление. Есть ли у тебя или у нас страх перед наступлением как таковым? Нет. Непредсказуемое, неизвестное в термине «наступление» является причиной. Попадет не попадет, а от этого совершенно логичная связь с собой. Попадет в меня или нет. В меня — «я» — самое главное, а все остальное — нет. А когда понимание нельзя прояснить — наступает страх. Коротко и ясно. Случайность является причиной твоего страха.
— Может быть, Эрнст. Но у меня трясучка началась с преподавателя плавания и…
— Вздор! Естественно, в некоторой мере страх начинается с неприятного, будь это человек, вроде преподавателя плавания, или зубной врач, или с ситуации, страх перед экзаменом, например, или перед свадьбой. Но это ребячество ничто перед тем, что происходит сегодня или завтра. А из-за того, что ты сегодня не знаешь, чем дело кончится завтра, потому что ты с точностью знаешь только одно — что все зависит именно от случая, поэтому ты боишься, поэтому боюсь я, и вся обделавшаяся армия боится — и наша, и русская. А страх ослабляется только в том же соотношении, в котором растут звезды на витых погонах. Понял?
— Хм. Но есть и такие, которые совершенно точно чувствуют, что все пройдет неудачно, что они из мясорубки уже не выберутся.
— Такие ожидания, конечно, есть. Но уверенность? Я думаю, если кто-то уверен в том, что погибнет, то он уже там, наверху, и страха у него больше нет.
— Ты читал книгу «Вера в Германию» Цёберляйна?
— Кто ее не читал, «велича-а-айшую военную книгу всех времен». Зато сейчас я знаю, что она — величайшая чепуха всех времен.
— Правильно, но он описывал ситуацию, когда он со своими товарищами сидел в укрытии, и у некоторых вдруг увидел на лбах кресты, и понял, что они погибнут.
— Так он был не только писателем, а еще и ясновидящим! Цыпленок, ты, оказывается, еще и наивный! Это же трюк, хороший для фильма, что-то среднее между христианской верой и неотвратимостью фронтовой судьбы.
— Ты еще помнишь про Харьков? Последнюю ночь перед штурмом города? Я помню как сейчас дурацкое выражение, помню его точно, как будто увидел его пять минут назад: разрушенный колхоз, облупившаяся доска, и кто-то мелом на ней написал: «Велика и жестока судьба, но еще более велик человек, который ее непоколебимо выносит!»