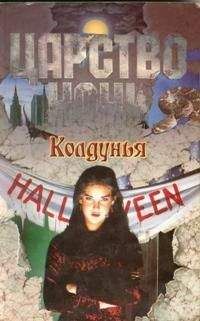Кроме страшных слов, употребляются еще и возвышенные. У тех и других общее назначение: их следует вбивать в мозги. Склонные в молодости к высокому, мы начали с патетических выражений: гидра контрреволюции, пламенный привет, зубами грызть гранит науки. К страшному мы пришли позже, и оказалось, что одно может прямо и непосредственно вытекать из другого. Умело смешав в надлежащей пропорции возвышенное и страшное, отравители человеческих душ получают сильнодействующее воспитательное зелье.
* * *
… Со дней моей юности прошло почти тридцать лет. В 1950 году я сидел в лагере. В круглом бараке площадью в сорок метров помещалось сорок человек. Мы называли барак юртой. В центре юрты висел репродуктор, воспитывавший нас в духе любви к вождю.
Утро начиналось с рапорта ему: какой-нибудь колхоз или завод рапортовал о достижениях, беря на себя повышенные обязательства на базе выявленных резервов. Затем целый день шло склонение обожаемого имени во всех падежах со всеми положенными эпитетами: великий, мудрый, гениальный, светоч, любимый, горячо любимый. Список наиболее употребительных в этом контексте слов не богаче, пожалуй, лексикона Эллочки-людоедки из знаменитого романа Ильфа и Петрова.
Большинство невольных жителей юрты привыкло. Но я не мог. К счастью, мы ни о чем хорошем отрапортовать не сумели, и нас перевели в Бутырскую тюрьму. Там тоже газет не давали, и я долго был лишен удовольствия читать "Поток приветствий". Так называлась многолетняя рубрика в "Правде" – бесконечный список организаций, приславших приветствия Сталину ко дню его семидесятилетия. Эта рубрика, занимавшая 22 столбца, печаталась изо дня в день в течение свыше трех лет. Сейте разумное, доброе, вечное! Метранпаж спросит у выпускающего:
– Сколько строк "Потока" сегодня верстаем?
И выпускающий, заглянув в макет, отвечает:
– Двести шестьдесят. (Сейте разумное!)
Во время этого разговора ни тот, ни другой не смеют улыбнуться. Это агитация. За нее можно отхватить пять лет. (Сейте доброе!)
Метранпаж ловко снимает с талера строки набора. (Сейте вечное!)
А мы именно вечное собирались сеять, верстая первый номер "Молодой гвардии". Не имели мы ни современных ротационных машин, ни готового набора с приветствиями. Свой первый номер мы печатали на ручной плоскопечатной машине. Рукоятку крутили поочередно редактор, три сотрудника и метранпаж. Мы сеяли разумное вручную.
Намереваясь разоблачить все зло мира, мы начали с хорошего дела: в первом же номере разоблачили подрядчика-нэпмана, который нанимал детей для чистки пароходных котлов. Детям ловчее пролезть в топку, и он заставлял их лезть, не дожидаясь, пока она остынет.
Защита молодых рабочих от эксплуатации была при НЭПе важным делом, и занимался им экономически-правовой отдел губкома комсомола, которым заведовал Витя Горелов.[16] Он добился суда над нэпманом-эксплуататором.
О Вите Горелове меня настойчиво спрашивали следователи Ежова[17] и Берии. Их интересовала не его подпольная деятельность при Деникине и не то, как отважно он сражался в рядах Красной армии. И история его расстрела не интересовала их – а это была не такая уж дюжинная история. Витя был расстрелян махновцами вместе с группой красноармейцев. Но его недостреляли. Потеряв много крови, он очнулся, вылез из-под трупов и почти ползком добрался до ближайшего села. Крестьяне подобрали его и выходили. У него оказалось восемнадцать ран – но он выжил. Историю эту я слышал от других: Витя не любил рассказывать о себе.
В 1923 году, в честь двадцатилетия ВКП(б), одесский комсомол передал в подарок партии пятьдесят комсомольцев – ребят и девчат. В виде исключения нас сразу утвердили действительными членами партии, без прохождения кандидатского стажа. Требовались две рекомендации: одна – от губкома комсомола, вторая – от старого члена РКП(б). Витя подписал мою анкету: он был коммунистом с подпольным стажем.
Прошло тринадцать лет: роковое число. В годовщину моего приема в партию я был арестован за слишком тесную дружбу с Витей, Марусей, Мишей Юговым. Что ж, если я имею право гордиться чем-нибудь, то прежде всего – дружбой с ними.
Где ты похоронен после второго расстрела, Витя Горелов?
"Жизнь посвящает очень немногих
в то, что она делает с ними".
Б. Пастернак, «Детство Люверс».
О молодежи первых лет революции написаны книги, вошедшие в советскую классику. В умах наших детей и внуков сложился хрестоматийный образ деда и бабушки. Одну бабушку я встретил после тридцати семи лет разлуки. По голосу, по смеху и даже по наружности в ней еще можно было угадать прежнюю веселую Верочку. Сестра ее, Маруся, погибла в 1937-ом. Брат тоже погиб, а муж подвергался репрессиям только за то, что свояченица, которую он еле знал, оказалась неугодной властям.
Сама Вера вступила в партию лет тридцать пять назад – я ее знал только комсомолкой. Всю жизнь трудилась она у станка и обо всем судит трезво и здраво с чисто рабочей точки зрения. Она хорошо знает, что творилось в стране в тридцатые годы: сама бегала по прокуратурам Ленинграда, вызволяя мужа из рук ежовских следователей. И вызволила-таки. И знакомые, встречая его на улицах, удивлялись:
– Как, ты еще жив?
В Ленинграде уже тогда народу было известно кое-что. И Вера с той поры знает многое. Но она считает, что в несчастьях всей семьи виновата только сестра. Не проголосуй она против Сталина, ее бы не преследовали, и брат остался жив.
Вера почти не поддерживала связь с сестрой. Два года продержала у себя ее ребенка, совсем крохотного – вот и вся связь. Сестры даже не переписывались; брат – тоже. Тем не менее, только Маруся всему виной – Вера убеждена в этом. Не надо было навлекать пулю на себя – не подвела бы и родственников. Но ведь "там" погибли десятки тысяч (разговаривая с Верой, я еще не знал, что число нулей справа надо увеличить) таких, которые голосовали "за".
Но мой довод не действует. Она просит меня не называть их фамилию. А вдруг мои воспоминания когда-нибудь напечатают?
– Ну и что же тогда, Верочка? Боишься?
– Да не хочу я, чтобы наша фамилия фигурировала. Мало ли что! Мне-то ничего, я старая, но у меня дочери.
– Что же твои дочери?
– Мало ли что!
Хорошо, я уступаю желанию Веры. Я не заподозрю ее в измене тому, чему мы посвятили свою молодость. Мне лишь хочется понять, как сложилась такая психология.
Наш разговор происходил как раз в день десятой годовщины со дня похорон Сталина. Его набальзамированный труп уже успели вынести из мавзолея. А Вера упрямо твердила: "Мало ли что!"