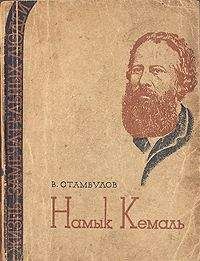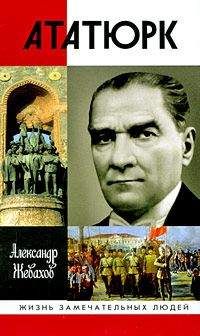Романтически настроенной молодежи оставалось лишь платонически мечтать о любовных приключениях и всецело отдаваться вину, однообразным развлечениям кофеен и оторванной от жизни поэзии.
Кемаль прошел и через эту стадию. Со своими сверстниками он просиживает целыми вечерами в различных стамбульских кафе и кабачках: «Гюмюшхалкалы», «Алтынолук», «Сервили», «Кылыч», славившихся тогда в Стамбуле. Но это продолжалось недолго. Пустота жизни литературной богемы того времени скоро стала ему ясна. Он начинает разборчивее относиться к своим сотоварищам и сближается с теми, кто подобно ему более серьезно смотрит на жизнь и литературу. Среди записанных им в дневнике изречений мы читаем: «разгул по инерции подобен пиру на кладбище».
В то время в Стамбуле начали выявляться два литературных течения. Представителями первого была большая группа уже признанных поэтов-корифеев, досконально изучивших старую арабскую и персидскую литературу, смаковавших ее напыщенный стиль и мистическое содержание и рабски подражавших ее застывшим канонам.
Другое течение – молодых – начало только намечаться. Появившееся в результате проникновения в Турцию западных идей и влияний, оно группировало вокруг себя небольшую кучку поэтов и журналистов, которых с презрением третировали старые литературные знаменитости.
«Молодые» требовали очистки турецкого языка от не понятных никому, кроме небольшой кучки знатоков, арабских и персидских выражений, отказа от мертвых классических форм: «диванов», «газелей»,[35] хвалебных од. Это требование молодых воспринималось представителями старого течения, как неслыханная ересь, как посягательство на сокровища литературного наследства. Кемалю, который посвятил свои юношеские годы овладению этой с трудом дающейся науки, также казалось, что вне старых форм не может быть поэзии. Вот почему вначале он очень холодно, почти враждебно, отнесся к новому течению и полностью примкнул к «классикам», объединившимся в группу, известную под именем «поэтического комитета». Из входивших в нее корифеев особой репутацией пользовались Ариф-Хикмет, Авни-Галиб, Исмаил-Хаккы, Халет, Мемдух, Наили-паша, Лескофчалы-Галиб, Эшреф-паша. Этот последний и дал Кемалю прозвище «Намык», что значит «великий».
Наибольшее влияние на Кемаля в смысле освоения старых форм оказал Лескофчалы-Галиб, о котором Кемаль с большим уважением отзывался до конца жизни.
Среди членов «поэтического комитета» большинство годилось Кемалю в отцы, Многие из них уже выпустили в свет не один сборник стихов, но, несмотря на это, Кемаль очень скоро занял среди них видное место. Его газели, написанные по всем правилам старой школы и говорившие о глубоком знакомстве с классической литературой, возбуждали всеобщее восхищение богатством, разнообразием и красочностью метафор, уподоблений, эпитетов, игравших первостепенную роль в старой поэзии.
В течение года Кемаль закончил свой первый «диван» лирических стихов.
Теперь он мог считаться настоящим поэтом. Часть книги была написана совместно с видными членами «поэтического комитета», но уже и тогда было видно, что лучшими в сборнике были стихи, написанные самостоятельно Кемалем. Слава о нем распространилась по всему Стамбулу. Сами корифеи не гнушались цитировать его строфы, как образцы высокой поэзии. Кемалю в это время шел девятнадцатый год. Тогда же он впервые встретился с Шинаси, и эта встреча явилась поворотным моментом всей его жизни.
Несчастным назовут того, кто, устрашась проклятия невежд, Сойдет с пути стремления к Познанью.
НАМЫК КЕМАЛЬ
Моя нация – человечество,
Земной шар – мое отечество.
ШИНАСИ
В шестидесятых годах прошлого столетия Стамбул[36] все еще оставался тем полуэкзотическим городом, который был так дорог сердцам французских колониальных романтиков – Пьера Лоти и Клода Фаррера.
Население оделось в европейское платье, но не рассталось с красной феской. Женщины не появлялись более в ярких шальварах и шитых шелком болеро, но попрежнему закрывали лица черным газом. Густые деревянные кафесы[37] продолжают ревниво охранять интимную жизнь патриархального мусульманского дома от любопытных взоров улицы. Уже не встретишь гордо выступающих в парчевых кафтанах, обвешанных драгоценными ятаганами янычарских старшин, но отвратительные обрюзгшие пергаментные лица евнухов мелькают на каждом торжественном приеме.
Годы Танзимата не дали Стамбулу фабрик, но на Пера и в Галате левантийцы открыли фешенебельные рестораны, дорогие увеселительные заведения, шикарные магазины, за громадными зеркальными витринами которых разложен соблазнительный ассортимент последних европейских мод. Голубые спокойные воды Босфора все еще бороздят раззолоченные каики с живописно одетыми гребцами, но, обгоняя их и обдавая молочной пеной из под шумно-бурлящих колес, проходят высокопалубные пароходы пригородного сообщения.
Попрежнему резкая грань разделяет жизнь двух главных частей Стамбула.
На европейском берегу Босфора, отделенные Золотым Рогом, как два смертельных противника, стоят друг против друга старый турецкий Стамбул и космополитические левантийские Пера и Галата. И хотя по широкому мосту, перекинутому через Золотой Рог, переход из одной части города в другую занимает не более пяти минут, ничто не может заполнить вековой пропасти, разделяющей их.
Жизнь старого Стамбула вся в прошлом. О былой славе здесь кричит каждый камень: обелиски византийского ипподрома, мрачная громада Айя-Софии, разрушающиеся стены Топ-Капу, массивные, подавляющие купола мечетей Нури-Османие, Баязида, Сулеймание и, наконец, Султан-Ахмеда, с ее шестью устремленными в небо стройными минаретами – гордым символом господства Османов над мусульманским миром, ибо до постройки этой мечети лишь священная Кааба в Мекке могла иметь более четырех минаретов.
У подножия этих, довлеющих над жизнью города, несокрушимых цитаделей религии кишит мелкая торговля, влачит жалкое существование отмирающее цеховое ремесло, проводят вечера в маленьких закоптелых кофейнях, слушая рассказы медахов[38] и монотонную игру сазов, мелкие чиновники, проповедники захудалых мечетей и базарные менялы. Из деревень приходят «йорганлы»[39] в поисках какой-либо работы или за мелкими крестьянскими покупками.
Обветшавшие безглазые деревянные домики с окнами, выходящими на внутренний двор, образуют лабиринт узких кривых переулков. На каждом шагу – посеревшие могильные плиты с каменными тюрбанами у изголовья, говорящие о том, что здесь похоронен уважаемый шейх или просто богатый купец, и небольшие мавзолеи с полуразрушенным куполом, с осыпающейся известкой, на железных решетках окон которых навязано бесконечное количество грязных лоскуточков – свидетельство, как усердно молят жители квартала своего «эвлия»[40] о даровании здравия.