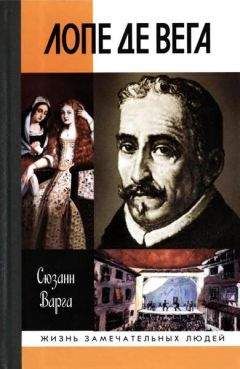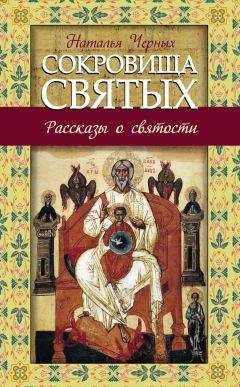Увы, в данном случае мы не располагаем неким подобием дневника, который вел Эроар, врач юного будущего короля Людовика XIII; этот документ, составленный примерно в то же самое время, уникален, ему нет равных в анналах истории, ибо врач этот был едва ли не помешан на клинических наблюдениях и потому тщательнейшим образом записывал все, что касалось его подопечного: его поступки и смену настроений, его приступы гнева и даже его детские словечки. Мы также не располагаем и частной перепиской, вроде тех писем, что недавно были обнаружены в еще не исследованных фондах архивов «Симанкас», где хранятся документы знаменитых общественных деятелей и светил науки и искусства, писем, которые могли бы пролить свет на положение детей в Испании того времени, как это могут сделать личные письма короля Филиппа II, в которых сей любящий и внимательный к своим дочерям отец описывал этапы их развития столь подробно и откровенно, что даже сегодня изумляет исследователей. Но Лопе не был сыном короля, а если бы и был, то и тогда, вполне возможно, мы не нашли бы письменных источников, способных удовлетворить наше любопытство, потому что в те времена детский лепет не воспринимался как некие многообещающие предзнаменования, способные рассказать о том, какими талантами сие дитя будет одарено, когда достигнет взрослого возраста. Надо было дождаться XIX века, чтобы в великом человеке восхищаться «прекрасным ребенком, несравненным дитятей», коим он был в детстве, ведь до XIX века «территория» детства рассматривалась всего лишь как неопределенное состояние, которое почти никто и не думал исследовать. Так, даже у мыслителя, руководствовавшегося очень и очень передовыми идеями для своего времени, чрезвычайно озабоченного вопросами образования и воспитания, мы не найдем никакого интереса к ребенку. Разве не говорил Монтень об отцовской любви: «Что касается меня, то у меня, как ни странно, приглушен вкус к тем склонностям, что рождаются в нас по естественному зову природы. Я не могу испытать ту страсть, что заставляет обнимать и целовать детей, не ощущаю ни душевных порывов, ни телесных позывов, которые эти поцелуи и объятия могли бы удовлетворить». Затем добавляет: «В столь нежном возрасте их склонности и привязанности столь неопределенны и неустойчивы, обещания столь смутны и ненадежны, а вернее, обманчивы, что нельзя на них строить какое-либо серьезное суждение о их истинных характерах и способностях». Однако все же XVI век — это не эпоха Античности, о жестоких, можно даже сказать варварских обычаях коей поведал нам Юлий Цезарь, ведь по его рассказам выходило, что дети не смели показываться отцу на глаза и не имели права находиться при нем и бывать с ним в общественных местах до тех пор, пока не начинали носить оружие. Что занимало родителей в эпоху Монтеня, а соответственно, и отца Лопе, так это вопрос об обучении детей, ибо обучение ребенка, по выражению того же Монтеня, — важная и трудная задача, тяжкий труд, необходимый, но требовавший отваги, и тогда считали, что обучение может быть только результатом деяний «сильной и возвышенной души, способной быть снисходительной к ребяческим выходкам ребенка, чтобы руководить им».
Разнообразные стороны этого первого этапа жизни Лопе скрыты во мраке, и у нас нет никакой надежды на то, что сей мрак когда-нибудь рассеется. Мы располагаем о его детстве и о годах его учебы только разрозненными сведениями, крайне беспорядочными, а также довольно ненадежными и отрывочными свидетельствами, сообщающими об отдельных фактах, хронологический порядок которых трудно установить, но мы полагаем, что связаны они с местами и людьми, достойными упоминания; мы будем все же стараться выстраивать эти сведения в некую цепь, следуя исторической логике. Среди основных источников информации мы прежде всего рассчитываем на очень точные и четкие разъяснения, которые можно почерпнуть в произведениях самого Лопе, где он нам представляет свое видение событий и явлений прошлого, восприятие коих дано от лица взрослого человека, но явно содержит следы пережитых когда-то чувств. Быть может, с нашей стороны и весьма опрометчиво совершать попытку восстановить точную картину некоего периода жизни по этому видению событий прошлого, вероятно, уже смягченному временем и претерпевшему изменения в результате не поддающейся осмыслению, неконтролируемой работы памяти, но, с другой стороны, не следует систематически подвергать сомнению откровенные признания, продиктованные к тому же осознанной необходимостью художественного творчества и искусства.
То же самое можно сказать и о втором основном источнике сведений о детстве Лопе: о преисполненном почтения и лести творении молодого ученика Лопе де Вега, драматурга Хуана Переса де Монтальвана (встречается и написание Монтальбан. — Ю. Р.), бывшего моложе своего учителя на 40 лет; благодаря участию своего отца, очень известного мадридского книготорговца и издателя Алонсо Переса, издававшего и произведения Лопе, сей талантливый литератор долгие годы был близким другом Лопе. Именно он на следующий же день после кончины учителя написал панегирик, иными словами его первую биографию, под названием «Посмертная слава». Даже если при знакомстве с этим источником учесть, сколь велик в нем «коэффициент субъективности и гиперболического преувеличения», то надо признать, что он представляет собой в отношении детства Лопе чрезвычайно интересное собрание сведений и свидетельств о его характере, темпераменте и чувствительности и даже может служить залогом того, что преисполнен некоего назидательного смысла. Следует помнить, что как только мы отваживаемся углубиться в сферу искусства и творчества, так тотчас же сталкиваемся с чем-то необъяснимым, странным, неожиданным, с некой неукротимой силой, и именно с такими явлениями мы и будем постоянно сталкиваться при изучении перипетий жизни Лопе де Вега.
Если говорить о его детстве, то никаких «сюрпризов» обыденности там нет. Тот, кому предстояло быть совершенством во всем, уже в ту пору превзошел границы детских возможностей и способностей. Если верить Монтальвану, Лопе был действительно чудо-ребенком, вундеркиндом: «Ему еще не было и двух лет, а уже в блеске и живости его глаз проглядывал незаурядный ум. Он начал учиться раньше, чем говорить, и потому, еще не владея речью, выражал свои мысли при помощи действий и смены выражений лица».
Лопе очень рано стал посещать школу, где превзошел всех своих товарищей, ибо испытывал неуемную тягу к знаниям: он невероятно быстро освоил алфавит и научился читать; правда, следует заметить, что еще до того, как он начал посещать школу, он, по причине своего малолетства, был часто не способен четко выговаривать слова и складывать их в фразы, а потому изобрел для передачи своих мыслей богатый набор жестов, наделенных определенным смыслом. Волнующим предзнаменованием будущей невероятной плодовитости Лопе, вероятно, можно счесть то обстоятельство, что он, еще не научившись писать, уже до такой степени был во власти поэтического вдохновения, что стихи, казалось, зарождались в его воображении помимо воли. «Едва научившись говорить, я был уже призван музами, находившимися под покровительством Феба», — писал он в «Послании к Амарилис». Чтобы не забыть стихи и собрать воедино строки, он прибегал к уловкам, достойным истинного военного стратега: приходилось жертвовать своим обедом, предложив его тому, кто соглашался записывать стихи под его диктовку. Говорят, его не раз ловили на том, что он менял плоды своего поэтического вдохновения на картинки и игрушки, и наоборот, жертвовал картинками и игрушками ради того, чтобы получить строки стихов, записанные на бумаге.