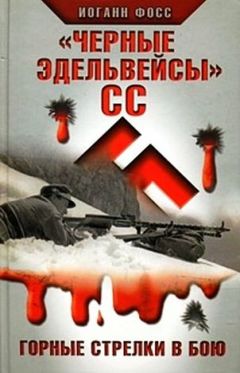Однако в наших вечерних домашних дискуссиях мать выступила в роли адвоката дьявола. Она задавала мне какой-нибудь вопрос, связанный с официальной позицией властей, чтобы я мог высказать свое мнение. В числе вопросов были такие, что касались обстановки на фронте, хвастливых высказываний тех, кто недооценивал врага, жестких методов расправы с инакомыслящими и прочих просчетов, допущенных партийными функционерами. Я догадывался, что тем самым она ждет от наших дискуссий подтверждений правоты нашего дела. Ей нравилось подводить итоги своим собственным критическим замечаниям в адрес национал-социалистов, которые в отдельных случаях допускали перегибы в духе так ненавидимых ими коммунистов. Затем наступала моя очередь изложить доводы в пользу справедливости поведения национал-социалистов, которые оправдывали средства, применявшиеся ими в ответ на безжалостные зверства нашего врага на Востоке. При этом она настаивала на своей точке зрения примерно таким образом: «Враг никогда не будет уничтожен, обычно зло наследуется другой стороной». Это было одно из ее тщательно продуманных, иногда удивительных, парадоксальных умозаключений, являвшихся результатом продолжительного анализа различных аспектов международной политики, вызывавших ее беспокойство.
В наших разговорах преобладала одна главная тема: после такого короткого срока — прошло не более десяти лет — Третий рейх оказался в состоянии перехода, который станет новым этапом в жизни немецкого общества и в международной обстановке в целом. Восстановление монархии, династии Гогенцоллернов, невозможно уже ни в какой форме, и давно стало очевидно, что стране нужна новая политическая элита, способная заменить тех, кто выдвинулся к вершинам власти во «время борьбы», то есть лет, предшествовавших 1933 году, когда НСДАП активно боролась со своими оппонентами.
Мы надеялись, что война будет способствовать созданию такой элиты, появлению закаленных в боях мужественных борцов, которые займут место старых партийных функционеров сразу после того, как наступит мир. Нам особенно хотелось, чтобы эта новая элита обладала пониманием того, для чего она предназначается — служения общему благу нации. Однако мы хорошо понимали, что чем дольше будет продолжаться война, тем стремительнее будет исчезать та почва, которая способна взрастить такую элиту.
Все это, возможно, и не являлось высшей политической мудростью, однако в то время, по крайней мере, обладало неким правдоподобием. Во всяком случае, это радикально отличалось от того образа «нацистской диктатуры», который рисовался на страницах газеты «Старз энд страйпс», согласно которой злонамеренный курс тогдашней политической системы Германии был отчетливо виден с самого начала. Я согласен с тем, что при тоталитарном режиме могло происходить все, что угодно, но также полагаю, что ничто не носило предопределенного заранее характера.
Личность Гитлера в наших семейных разговорах никогда не обсуждалась. Мы просто не понимали, как можно было думать о нем как о безответственном авантюристе и фанатике, каким он начинает мне казаться сейчас, что подтверждается фактом его самоубийства, или даже предполагать, что он был способен на массовое уничтожение евреев. Мои родители с отвращением воспринимали ненависть Гитлера к евреям. Эсэсовская газета «Штюрмер», в которой часто публиковались мерзкие карикатуры антисемитского толка, часто называла евреев символом разрушительной политической вульгарности. Родители считали это обычным пропагандистским приемом, от которого национал-социалисты откажутся по окончании войны. Следует также отметить, что из того, что мы могли видеть, слышать или читать в годы Третьего рейха, ничто не свидетельствовало о том, что в Германии совершались широкомасштабные преступления, о которых так много сообщается теперь и которые лично мне кажутся невероятными.
Известно, что после того, как в 1938 году евреем Гриншпуном в Париже был убит немецкий дипломат, по всей Германии прошла так называемая «хрустальная ночь». Как и во всех прочих местах, в моем родном городе были разбиты витрины магазинов, принадлежащих евреям, и имели место многочисленные вспышки насилия. Эти мероприятия вызвали отрицательную оценку моей матери, и она на собрании местной женской партийной организации подвергла критике подобные действия, заявив, что те, кто их совершал, опозорили дело партии и в своем радикализме повели себя хуже, чем коммунисты. По ее мнению, таких незадачливых национал-социалистов следует наказать.
Я почти ничего не знаю об отношении моих родителей к евреям, во всяком случае при мне они практически никогда не касались этой темы в своих разговорах. Одного еврея я запомнил, он жил в Брауншвейге на той же улице, что моя бабушка, и был судьей. Он считался большим ценителем музыки, любил играть в составе струнного квартета и часто просил дядю Петера выступить у них второй скрипкой. Как бы то ни было, ярым антисемитизмом мои родители не отличались. Если припомнить их отдельные разрозненные высказывания, они в целом допускали в адрес евреев кое-какие критические замечания. По их мнению, отвратительные декадентские явления в немецкой культуре были вызваны несомненным еврейским влиянием. Мне запомнилась одна фраза критического характера, оброненная ими. Ее смысл состоял в том, что Германия сумеет противостоять большевистской идеологии, которую еврейские интеллектуалы смогли привить в России. Нацистской пропаганде удавалось найти отклик в сознании моих родителей, которые связывали вредоносное влияние евреев-интеллектуалов на большевизм с безродной сутью их существования.
Мы, конечно же, знали о концентрационных лагерях, хотя и не всю правду. По нашему мнению, это были трудовые лагеря, в которых условия содержания были суровыми, но справедливыми. Однако если бы нам было известно о преднамеренных массовых убийствах узников лагерей, которые начались в массовом масштабе как раз в то время, когда мы с матерью начали проводить вышеупомянутые политические дискуссии, то наши разговоры наверняка приняли бы иное направление и наше отношение к этому вопросу наверняка изменилось бы, причем радикально. Признаю, что эта мысль носит гипотетический характер, но если бы в то время люди больше знали о деяниях нацистов, то убийства и война все равно продолжались бы. С сегодняшней точки зрения кажется невероятным, что в эпоху Третьего рейха власть стала бы сообщать обществу о массовом уничтожении невинных людей и взяла бы на себя ответственность за это. Невероятным представляется и то, что немецкие солдаты и офицеры — за исключением немногочисленных фанатиков — стали бы рисковать жизнью ради такой бесчеловечной, несправедливой и разложившейся власти. Подобное знание нанесло бы сокрушительный удар по моральному духу армии. Краха Третьего рейха в ту пору не случилось потому, что происходившее в концентрационных лагерях было окутано плотной завесой абсолютной секретности. То, что война продолжалась, кажется мне сильным свидетельством того, что большая часть немцев не догадывалась об истинной сути нацистского режима. (Через много лет после окончания войны различные ученые-историки обнародовали факты, говорящие о том, что многие солдаты — от высшего руководства вермахта и до рядовых, а также целые батальоны полевой жандармерии — знали о массовых убийствах и прочих зверствах так называемых айнзатц-команд СС за линией фронта в Польше и России. Им также стало известно о том, что за этим скрывалось жесткое государственное планирование. И все же некоторые из них активно или пассивно сопротивлялись тогдашнему режиму, в то время как большинство продолжало исправно служить национал-социализму. Эти факты не поддерживают мою точку зрения образца 1945 года, когда я находился в плену, оставаясь наивным идеалистом. И все же если бы солдаты-фронтовики знали о подлинной сути Третьего рейха, позднее ставшей известной всей мировой общественности, они не стали бы отдавать свои жизни ради торжества идей преступного политического режима и еще до конца войны произошло бы разложение морального духа тех, кто воевал в рядах вермахта и войск СС. — Прим. автора.) Я сейчас не помню, какие именно вопросы мы обсуждали в тот памятный сентябрьский вечер 1942 года. В то время я еще никак не мог принимать участия в исторических событиях, но хорошо понимал, что главное в ту пору для немецкого народа — победа в войне. Эта война стала нашей общей судьбой, в том числе и моей судьбой. Меня продолжал мучить вопрос, типичный для всех моих ровесников: что ты готов сделать для своей родной страны? Этот вопрос глубоко врезался в наше сознание в военные годы. Мой ответ на него был достаточно прост: по мере сил служить родине как можно лучше. В этом не было ничего особенного, за исключением неясного осознания принадлежности к той части народа, которая более старательно выполняет свой долг. Было уже далеко за полночь, когда мы с матерью закончили беседу. Я выключил свет и раздвинул шторы, чтобы проветрить комнату. Внутрь проникал лунный свет, и я отчетливо увидел очертания двух хорошо знакомых мне вещей на книжной полке возле окна: армейской каски моего отца и его сабли.