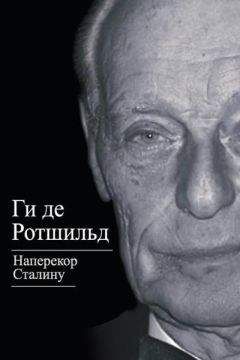Джеймс Ротшильд
При таких-то обстоятельствах барон Джеймс открывал на улице Лафитт свою банкирскую контору. Однако при Наполеоне ему не удалось обделать ни одного крупного дела, хотя он и не прочь был вступить с императором в денежные отношения. Гораздо лучше чувствовал он себя при Бурбонах, но тут случился маленький инцидент, который нарушил сердечные отношения между дворцом и улицей Лафитт. Барону Джеймсу вздумалось представить свою жену ко двору. Когда по этому поводу состоялось совещание, гордая герцогиня Ангулемская, истратившая в изгнании свою красоту и молодость и ожесточенная против всякой черни вообще, воскликнула: “Никогда! Не надо забывать, что французский король носит прозвание христианнейшего”. – “Хорошо же, – проговорил Ротшильд, – пусть же знают, что я не дам им ни гроша”.
И он сдержал свое обещание и своими маневрами на бирже несколько раз наказывал гордое правительство на миллионы. Бурбонам он вообще не доверял и был прав: Карл X едва не разорил его совершенно, впрочем, независимо от своей воли. Случилось это накануне июльской революции. В это время первый министр Полиньяк заготовил свои знаменитые ордонансы, отнимавшие у нации даже тень политической и гражданской свободы, и каким-то образом содержание их стало известным банкиру Уврару. Уврар, предчувствуя банкротство правительства, отправился в Лондон и стал самым энергичным образом играть на понижение, наводняя рынок французскими бумагами. Лондонская биржа встревожилась, и главный покупщик ее, Натан Ротшильд, телеграфировал брату, чтобы тот разузнал, в чем дело. Барон Джеймс немедленно же поехал к Полиньяку и потребовал объяснений, заявив на своем ломаном французском жаргоне, что тут затронуты “самые кровные его интересы”. Полиньяк сказал, что действительно он заготовил кое-что, но это чистые пустяки (un pur rien). Наивный министр и на самом деле полагал, что его ордонансы, почти восстанавливавшие инквизицию, – un pur rien. Ротшильд успокоился, не распродал своих бумаг и потерял миллионы.
Лишь со вступлением на престол Луи Филиппа (июль 1830 года) дела Джеймса Ротшильда пошли полным ходом, как шли в то время дела всех миллионеров вообще. Трудно на самом деле вообразить себе для торгашей, для банкиров, для спекуляторов обстановку более удобную, чем обстановка Июльской монархии. Нужно было лишь иметь миллионы, чтобы быть всем, – у Ротшильда они находились в изобилии. Между прочим, вот любопытная таблица крупных состояний, составленная Луи Бланом в 1841 году:
Как видно, Ротшильд был первым богачом Франции после короля. Даже клика всех банкиров, пока во главе ее не встал талантливый Перейра, не могла ничего сделать с ним, так как сумма их состояний равнялась лишь 362 млн. против 600 млн. ротшильдовских.
Но, чтобы понять размножение миллионов Джеймса Ротшильда (перед Июльской монархией у него было не более 200), надо обратиться к подробной характеристике того времени. Позволю себе привести здесь несколько блестящих страниц из “Воспоминаний” Токвиля, знаменитого автора “Демократии в Америке”:
“Тому, кто будет рассматривать нашу историю с 1789 до 1830 года в ее целости, она должна представлять собою картину ожесточенной борьбы между старым режимом с его традициями, воспоминаниями, надеждами и аристократическими деятелями и новой Францией, управляемой людьми среднего сословия. 1830 годом закончился этот первый период наших революций, или, вернее, нашей революции, потому что у нас была среди различных переворотов только одна революция, начало которой видели наши деды, а конца которой мы, по всей вероятности, не увидим. В 1830 году среднее сословие одержало окончательную и такую полную победу, что все политические права, все льготы, все прерогативы, вся правительственная власть оказались замкнутыми и как бы наваленными в кучу в узких рамках этого одного сословия, в которое был закрыт доступ легально всем, кто стоял ниже, а фактически – всем, кто стоял выше. Таким образом, среднее сословие сделалось единственным руководителем общества; даже, можно сказать, взяло его в арендное содержание. Оно заместило все должности, до крайности увеличило их число и приучилось жить почти столько же за счет государственной казны, сколько своим собственным трудом.
Лишь только совершилось это событие, все политические страсти стихли, во всем стала обнаруживаться какая-то мелочность интересов и стало быстро развиваться народное богатство. Отличительный дух среднего сословия сделался общим духом правительства; он стал господствовать и во внешней политике, и в делах внутреннего управления: это был дух деятельный, предприимчивый, часто нечестный, вообще склонный к порядку, иногда отважный из тщеславия и из эгоизма, робкий по своему темпераменту, воздержанный во всем, кроме влечений к благосостоянию, и не возвышавшийся над посредственностью; если он смешивается с духом народа или аристократии, он может творить чудеса, но в одиночестве он в состоянии создать только такое правительство, у которого нет ни добродетелей, ни величия. Сделавшись таким полным во всем хозяином, каким никогда не был и, может быть, никогда не будет никакая аристократия, среднее сословие ввело такую систему управления, которая была с виду похожа на промышленное заведение частного лица; оно окружило окопами свое могущество и вскоре после того свой эгоизм, так как каждый из его членов заботился гораздо более о своих собственных интересах, чем об общей пользе, – гораздо более о своих собственных удовольствиях, чем о величии нации.
Люди нового поколения обыкновенно замечают бросающиеся в глаза преступления предков, но не имеют понятия об их порочных наклонностях, поэтому они, может быть, никогда не узнают, до какой степени Июльское правительство усвоило в конце своего существования приемы промышленной компании, руководствующейся во всех операциях денежными интересами своих членов. Причиной этих порочных наклонностей были врожденные инстинкты господствующего класса, его безусловное владычество и даже характер той эпохи. Их усилению, может быть, содействовал и король Луи Филипп”.
По сочинениям Берне и Гейне, по “Истории Цивилизации” Бокля, наконец, по “Воспоминаниям” Токвиля русский читатель может составить себе полное представление о Луи Филиппе, короле-буржуа. Король для приобретения популярности пожимал руку добрым гражданам и спрашивал их: comment ca va?..[2] “Прекрасный семьянин, он был крупнейшим собственником своего государства, владея 800 млн наличных денег. Но все ему казалось мало, и ни для кого не секрет, что он постоянно играл на бирже и участвовал в различных промышленных спекуляциях. Самомнение его было грандиозно. Управление государством он называл “mener mon fiacre” (править своей тележкой) и не верил, что когда-нибудь в его стране может вспыхнуть революция. “Je suis bon roi du bon peuple”[3], – говорил он незадолго до знаменитых событий февраля 1848 года. В общем, это был король-буржуа, король-банкир, с единой политикой и единой программой – наживать деньги. Слабость его заключалась в пристрастии к популярности: стоило нескольким десяткам человек собраться под окнами его дворца, как он немедленно выходил на балкон и дружелюбно раскланивался с представителями bon peuple[4]. Когда ему сообщили о февральских баррикадах, он сказал: “Дайте мне коня, я покажусь моему доброму народу, и все пойдет хорошо”. Ему дали коня, он показался своему доброму народу, но из всего этого не вышло ничего... хорошего, разумеется”.