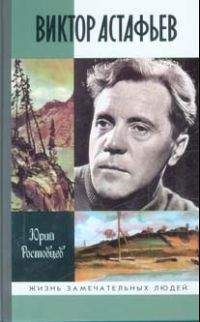Из города на подводе приехал фотограф!
И не просто так приехал, по делу — приехал фотографировать.
И фотографировать не стариков и старух, не деревенский люд, алчущий быть увековеченным, а нас, учащихся овсянской школы».
Именно вот с этим выделенным нами уточнением, что школа помещалась в бывшем кулацком доме, Астафьев публиковал рассказ на протяжении десятков лет. Этими словами он не просто сам себе причинял боль. Надо думать, это была «затесь» внутреннего порядка; он надеялся дожить до того времени, когда сможет дописать рассказ, дополнить его описанием дома семьи Мазовых, который стал сельской школой.
В окончательной редакции рассказа (1996) Виктор Петрович вставил подробное описание дома, в который его, новорожденного, внесла его мама. Как помним, рожала Лидия своего сына в баньке.
«Кстати говоря, дом, приспособленный под школу, был рублен моим прадедом, Яковом Максимовичем, и начинал я учиться в родном доме прадеда и деда Павла. Родился я, правда, не в доме, а в бане. Для этого тайного дела места в нем не нашлось. Но из бани-то меня принесли в узелке сюда, в этот дом. Как и что в нем было — не помню. Помню лишь отголоски той жизни: дым, шум, многолюдье и руки, руки, поднимающие и подбрасывающие меня к потолку. Ружье на стене, как будто к ковру прибитое. Оно внушало почтительный страх…
Санки помню, подаренные старшим братом бабушки Марьи, которая была одних лет с моей мамой, хотя и приходилась ей свекровью. Замечательные, круто выгнутые санки с отводинами — полное подобие настоящих конских саней. На тех санках мне не разрешалось кататься из-за малости лет с горы, но мне хотелось кататься, и кто-нибудь из взрослых, чаще всего прадед или кто посвободней, садили меня в санки и волочили по полу сенок или по двору.
Папа мой отселился в зимовье, крытое занозистой, неровной дранью, отчего крыша при больших дождях протекала. Знаю по рассказам бабушки и, кажется, помню, как радовалась мама отделению от семьи свекра и обретению хозяйственной самостоятельности, пусть и в тесном, но в „своем углу“. Она все зимовье прибрала, перемыла, бессчетно белила и подбеливала печку. Папа грозился сделать в зимовье перегородку и вместо козырька-навеса сотворить настоящие сенки, но так и не исполнил своего намерения.
Когда выселили из дома деда Павла с семьей — не знаю, но как выселяли других, точнее, выгоняли семьи на улицу из собственных домов — помню я, помнят все старые люди.
Раскулаченных и подкулачников выкинули вон глухой осенью, стало быть, в самую подходящую для гибели пору. И будь тогдашние времена похожими на нынешние, все семьи тут же и примерли бы. Но родство и землячество тогда большой силой были, родственники дальние, близкие, соседи, кумовья и сватовья, страшась угроз и наветов, все же подобрали детей, в первую голову грудных, затем из бань, стаек, амбаров и чердаков собрали матерей, беременных женщин, стариков, больных людей, за ними „незаметно“ и всех остальных разобрали по домам.
Днем „бывшие“ обретались по тем же баням и пристройкам, на ночь проникали в избы, спали на разбросанных попонах, на половиках, под шубами, старыми одеялишками и на всякой бросовой рямнине. Спали вповалку, не раздеваясь, все время готовые на вызов и выселение.
Прошел месяц, другой. Пришла глухая зима, „ликвидаторы“, радуясь классовой победе, гуляли, веселились и как будто забыли об обездоленных людях. Тем надо было жить, мыться, рожать, лечиться, кормиться. Они прилепились к пригревшим их семьям либо прорубили окна в стайках, утеплили и отремонтировали давно заброшенные зимовья иль времянки, срубленные для летней кухни.
Картошка, овощь, соленая капуста, огурцы, бочки с грибами оставались в подвалах покинутых подворий. Их нещадно и безнаказанно зорили лихие людишки, шпана разная… Выселенные женщины, ночной порой ходившие в погреба, причитали о погибшем добре, молили Бога о спасении одних и наказании других. Но в те годы Бог был занят чем-то другим, более важным, и от русской деревни отвернулся…
К весне в пустующих избах были перебиты окна, сорваны двери, истрепаны половики, сожжена мебель. За зиму часть села выгорела. Молодняк иногда протапливал печи в домнинской или какой другой просторной избе и устраивал там вечерки. Не глядя на классовые расслоения, парни щупали по углам девок.
Ребятишки как играли, так и продолжали играть вместе. Плотники, бондари, столяры и сапожники из раскулаченных потихоньку прилаживались к делу, смекали заработать на кусок хлеба. Но и работали, и жили в своих, чужих ли домах, пугливо озираясь, ничего капитально не ремонтируя, прочно, надолго не налаживая, жили, как в ночевальной заезжей избе. Этим семьям предстояло вторичное выселение…»
Астафьев вспоминает, как в его родном доме разобрали перегородки и сделали большой общий класс. После школы было в нем правление колхоза. «Когда колхоз развалился, жили в нем Болтухины, опиливая и дожигая сени, терраску. Потом дом долго пустовал, дряхлел и, наконец, пришло указание разобрать заброшенное жилище, сплавить к Гремячей речке, откуда его перевезут в Емельяново и поставят.
Быстро разобрали овсянские мужики наш дом, еще быстрее сплавили куда велено, ждали, ждали, когда приедут из Емельянова, и не дождались. Сговорившись потихоньку с береговыми жителями, сплавщики дом продали на дрова и денежки потихоньку пропили.
Ни в Емельянове, ни в каком другом месте о доме никто так и не вспомнил.
…Школьная фотография жива до сих пор. Она пожелтела, обломалась по углам. Но всех ребят я узнаю на ней. Много их полегло в войну. Всему миру известно прославленное имя — сибиряк.
Как суетились бабы по селу, спешно собирая у соседей и родственников шубенки, телогрейки, все равно бедновато, шибко бедновато одеты ребятишки. Зато как твердо держат они материю, прибитую к двум палкам. На материи написано каракулисто: „Овсянская нач. школа 1-й ступени“. На фоне деревенского дома с белыми ставнями — ребятишки: кто с оторопелым лицом, кто смеется, кто губы поджал, кто рот открыл, кто сидит, кто стоит, кто на снегу лежит…»
…Так вот вспоминал Виктор Астафьев дом своих дедов по отцовской линии и трагические события в родной деревне в годы раскулачивания. Такими остались в его памяти сверстники, большинству из которых не суждено было пережить военное лихолетье.
Осенью 1934 года в Овсянку вернулся Петр Павлович, отец Вити. Ходил он по селу аки герой. Еще бы! Теперь за его спиной были трудовые подвиги, которые совершал он на одной из главных строек социализма — Беломорско-Балтийском канале. Свидетельством тому стала пара броских значков ударника пятилетки на лацкане пиджака. И получалось, что возвратился он не из мест заключения, а из дальнего, действительно геройского похода. Ну, просто партизан Щетинкин!