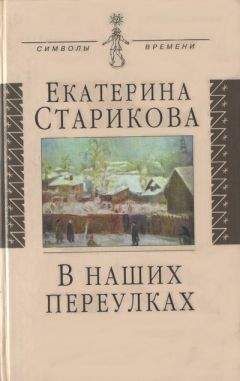Значительно позже (м.б., ты даже помнишь этот случай), уже в большой комнате мы читали „Горе от ума“ почти все наизусть. Мы — это дедушка Мих. Ник. (Фамусов), папа (все остальные мужские роли) и я (женские все). Вы слушали. (Кажется, это было в начале лета 1931 г.). Когда кончили читать, дедушка сказал о папе: „Да он настоящий артист“. И лучше всего он прочел роль Чацкого.
Пишу все это так подробно, чтобы ответить тебе и себе на твой вопрос, были ли у папы настоящие способности. Думаю, что были. Но вот он кончил техникум и из всех мужчин один не сделал даже попытки куда-то устроиться, потому что долг перед семьей был для него гораздо важнее всяких личных желаний и стремлений»[5].
Итак, теперь я знаю об артистической поре в жизни моего отца все факты, которые еще можно было извлечь из прошлого. Но избавляет ли это меня от собственных смутных воспоминаний о той поре? И, с другой стороны, в состоянии ли прибавить что-нибудь к фактам эти расплывчатые обрывки туманных видений раннего детства? Однако, если существует неизвестно чем вызванное искушение их уловить, задержать, запечатлеть, вероятно, сам вопрос излишен: я уже встала на этот путь, преодолевая постоянно сомнение в его какой-либо необходимости. Но, может быть, непреодолимое желание — та же необходимость?
Я еще не видела на одного театрального спектакля на сцене, но уже знала сюжеты некоторых пьес, шедших на сцене Камерного и Малого театров, и знала имена их главных актеров: Алису Коонен наравне с Ермоловой и Федотовой, Церетели рядом с Садовским и Остужевым; о них говорили у нас дома постоянно. Через разговоры взрослых, через атмосферу дома я чувствовала власть театра над жизнью моих родителей, его дыхание в нашей жизни — во всяком случае пока «нашим домом» была эта узенькая комната у парадной входной двери в квартиру № 3.
Одно из самых первых, смутных, еле уловимых воспоминаний моего — не детства даже, а младенчества, физиологически мучительное, как и почти все предвоспоминания человека: яркий, не защищенный ничем свет электрической лампы под высоким потолком, завешенная газетами сетка моей детской кровати с тщетной попыткой оградить меня от этого беспощадного света, мелькающие силуэты множества шумных, может быть, танцующих молодых людей, время от времени склоняющееся надо мной очень молодое лицо еще стриженой моей матери и щемящее ощущение моей ненужности в этой непонятной беспокойной сутолоке. Может быть, такое и было только раз, потому и запомнилось, но осталось навсегда — первое неуютное ощущение своего «я» в мире.
Так же мучительно трудно и скорбно другое предраннее туманное видение полутемного пустого и бесконечно-длинного вечера без родителей на руках у няни Моти. Мотя пришла к нам работать, только приехав в Москву из рязанской деревни, когда мне было чуть ли не три недели, а ей 18 лет. Она была «приходящая» прислуга и жила в Серебряном переулке, в том же доме, где Краевские, у своей старшей сестры «рыжей Саши». Сестры Воробьевы — это особая романтическая и драматическая история, а вернее даже несколько историй. Свою крошечную, курносую, корректную Мотю — короткая стрижка, английская блузка, французские каблуки и бирюзовые незабудки в малюсеньких ушах — я очень любила в детстве, она и в Ландех с нами ездила, и потом нас не забывала. Но в том предраннем детстве, в том незапамятном далеко, я, несмотря на Мотю, вечернее отсутствие родителей — а это почти наверняка был театр — воспринимала трагически. Даже тогда, когда стала понимать, куда и зачем они уходят.
Вот папа, свежевыбритый, в белой рубашке в полоску, внимательно завязывает перед зеркалом галстук. Мама ослепительна в своем очень коротком и блестящем черном платье, пышная юбка которого покрыта черным же прозрачным шифоном, спадающим длинными неровными фестонами: у талии к моему восторгу пламенеет громадная бархатная роза. Я верчусь между мамой и папой, шепча про себя слова из постоянно распеваемых мамой куплетов:
…Вот подвязкой алой стянут
Белый шелковый чулок…
Чулки у мамы не белые, а «телесные», как тогда говорили, и не шелковые, а «фильдеперсовые», как тогда носили. Но алая роза у маминой талии подсказывает знакомые слова из «Жирофле и Жирофля» — модного спектакля. Я горжусь и любуюсь молодым оживлением родителей. Но в душе уже неудержимо нарастает скорбная тревога близящейся разлуки, конца, ужасов. Это — как надвигающаяся катастрофа, когда просить, молить, жаловаться — неприлично, недопустимо и бесполезно.
Но театр — не только горе, он — и радость, и поэзия.
Вот родители мои после ужина одетые растянулись рядом на своей железной кровати, на солдатском сером одеяле, а я усаживаюсь верхом на животе отца. В руках у меня концы веревочки, привязанной к прутьям спинки кровати, — веревочки представляют вожжи. Папа и мама изображают Пер Гюнта и Осе. Пер Гюнт уговаривает умирающую мать сыграть с ним, как когда-то в детстве, в дорогу и лихого коня:
И в Сориа-Мориа, замок чудесный,
Лежащий на запад от кроткой луны,
К востоку от солнца, мы мчались с тобой…
Все понятно мне в этой увлекательной игре, все есть здесь, что нужно для игры: и певучий ритм стихов, и воображаемое движение воображаемых коней, и ненастоящие мамочка и сыночек, который жалеет свою мамочку, и веселые, согласные друг с другом, никуда не уходящие от меня мои настоящие папа и мама, я с ними, я участвую в прекрасной общей игре, и даже догадка о жутковатой тайне, скрывающейся в этой игре, не портит радости, а, напротив, придает ей значительность, выводит ее куда-то далеко за пределы этой комнаты, к какому-то лунному замку, на какую-то бесконечную дорогу и в какие-то далекие дали. И запоминаются навсегда как музыка непонятные слова: Сориа-Мориа, Пер Гюнт, Осе, Сольвейг…
И долго еще хранилась в нашем наследственном павловском секретере — вместилище почти всего имущества семьи и во всяком случае всех вещественных знаков ее тайн, — действительно, какая-то газетка с фотографией сцены из «Огней Ивановской ночи», где отец играл главную роль. На снимке невозможно было что-либо отчетливо различить, но я-то знала, что одна из этих смутных теней — папа, молодой папа, о прекрасной игре которого написано здесь же рядом, хотя я сама не могу этого прочесть.
Многие бывшие ученики театральной студии и сам Николай Михайлович Церетели с Константином Георгиевичем Сварожичем оставались еще несколько лет после того, как мои родители расстались с мечтой о театре, друзьями и гостями нашего дома.
Из глубины лет всплывают две высокие и тонкие мужские фигуры. В шляпах, в пальто с большими меховыми воротниками, с какой-то подчеркнутой веселостью шумно входят они в нашу комнату. Я сижу на полу и строю дом из кубиков, родителей нет. Бесконечно длинные ноги перешагивают через меня — это не обидно, я понимаю, что это нарочно, что это — шутка — и проходят вглубь комнаты, чтобы привязать к спинке стула два больших воздушных шара. Впрочем, один из них вовсе не шар, а продолговатая зеленая «колбаса», у меня еще никогда такой не было, и я мысленно спешу присвоить ее себе, тут же прикидывая, что маленький Алеша легко согласится и на обыкновенный розовый шар.