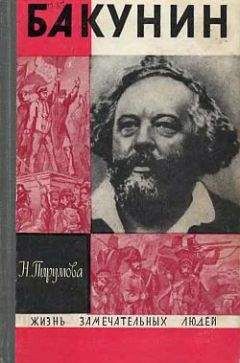Руге заинтересовал Бакунина. «Он интересный, замечательный человек, замечателен более как журналист, как человек необыкновенно твердой воли и ясностью своего рассудка, чем спекулятивной способностью. Он без всякого исключения враждебно относится ко всему, что имеет хоть малейший вид мистического» (т. III, стр. 437) — так характеризовал он своего нового знакомого в письме к родным.
И Руге молодой русский гегельянец понравился. «Бакунин очень образованный человек и обладает крупным философским талантом», — заметил он в письме к своему брату. Вскоре их знакомство переросло в дружбу, причем молодой (Бакунин был моложе Руге на 12 лет) и безвестный еще русский философ стал оказывать влияние на признанного вождя левых гегельянцев.[62] Вскоре круг знакомств Бакунина в демократических немецких слоях стал более широким. Он познакомился с дрезденским демократом Кесслером, издателем Вигандом и многими другими.
По пути из Дрездена в Берлин Бакунин открыл книгу Ламенне «Народная политика». Во время чтения «мне пришло много хороших мыслей о том, как теперь должно заниматься историей и политикой. Нынешней зимой я непременно стану осуществлять их; и это занятие мне тем ближе к сердцу, что именно теперь настало время, когда политика есть религия и религия — политика» (т. III, стр. 437).
Живой интерес к окружающей действительности, знакометво с политическими деятелями, политической литературой — с одной стороны, а с другой — философия в ее отвлеченных, абстрактных формах. Такое противопоставление при характере и темпераменте Бакунина было не в пользу науки. Впрочем, он писал, что сама Германия излечила его от «преобладавшей в ней философской болезни; познакомившись поближе с метафизическими вопросами, я довольно скоро убедился в ничтожности и суетности всякой метафизики: я искал в ней жизнь, а в ней смерть и скука, искал дела, а в ней абсолютное безделье».[63]
Это слова из «Исповеди», написанной спустя много лет и со специальной целью.[64] Бакунин подчеркивал здесь лишь то, что считал нужным или интересным для человека, которому он адресовал свое послание.
Его корреспондент не любил Германии, ему приятно было прочесть, что в германской науке царят «смерть и скука». Писать же, что в той же Германии политическая жизнь была интересна и что именно она отвлекла его от абстрактной науки, он не стал.
В черновике письма графу Элиодору Сторжевскому, отобранном у Бакунина при аресте, он, не объясняя причин перехода к практической жизни, писал лишь, что в конце концов он образумился и понял, что «жизнь, любовь, действие могут быть поняты только через жизнь, через любовь и через действие. Тогда я совершенно отказался от трансцендентной науки… и душой и телом погрузился в практическую жизнь».[65]
Действительность, но не та идеальная, которой он поклонялся раньше, а живая, кипучая, революционная стала теперь его богом, и он тут же принялся внушать новую истину своим сестрам: «Только действительность может удовлетворить нас, и это потому, что только действительность есть сильная, энергическая, т. е. истинная истина. Все же остальное есть вздор, призрак и, если Варенька позволит употребить это выражение, постный идеализм» (т. III, стр. 437).
Вот как описывает этот «поворот» Бакунина А. И. Герцен: «Бакунин вначале поразил берлинских профессоров своим воодушевлением, талантами и смелостью выводов… но скоро он соскучился и порвал с квиетизмом немецкой науки. Бакунин не видел другого средства разрешить антиномию между мышлением и действительностью, кроме борьбы, и он все более и более становился революционером. Он принадлежал к числу тех молодых литератороз, которые протестовали в „Галльских летописях“, руководимых Арнольдом Руге, против бесплодного, аристократического и бесчеловечного понимания науки… против их бегства в область абсолюта, против их бездушного воздержания, мешавшего им принимать какое-либо участие в горестях и трудах современною человечества».[66]
В характеристиках, которые давал Герцен Бакунину, почти всегда присутствовало что-то от литературы. Впрочем, это относилось не только к Бакунину. Блестящий писатель, художник, обладающий своеобразным языком и литературным стилем, Герцен, создавая портреты своих современников, не стремился к фотографическому воспроизведению образа, тех или иных обстоятельств. Его мемуары, хотя в чем-то порой неточные, создавали картину эпохи, в целом, бесспорно, достоверную и исторически глубоко правдивую.
К Герцену, его словам о Бакунине, их личным отношениям нам придется обращаться еще по раз. Теперь же вернемся к приведенному выше отрывку.
«…Но скоро он соскучился», — пишет Герцен по поводу разрыва Бакунина с немецкой наукой, однако это лишь литературная фраза. Действительно, Бакунин по видел другого средства разрешить «антиномию между мышлением и действительностью, кроме борьбы». К самой же идее борьбы пришел он потому, что не мог больше не принимать участия «в горестях и трудах современного человечества».
Ощущение своей сопричастности к человечеству и раньше было свойственно Бакунину. Но связанный путами идеалистической философской мысли, он искал эту сопричастность в сфере чистого разума. Постепенно живая (а не придуманная по Гегелю) действительность стала вторгаться в созданный им мир абстракций. Этот процесс начался еще в Москве, подспудно продолжался в последующие 3–4 года и, наконец, в Дрездене в 1842 году был завершен переходом на новые идейные позиции.
Известная сложность в духовном развитии молодого Бакунина, его весьма длительные и порой мучительные размышления над проблемой действительности заставляют не соглашаться с мнением биографа Бакунина Вяч. Полонского, считавшего, что «переход от философии к политике произошел быстро, без борьбы, без думы роковой. Точно жил человек под властью наваждения. Но, проснувшись однажды, тряхнул кудрями — и наваждения как не бывало».[67]
Была и внутренняя борьба, были и думы, они помогли ему найти свое место в той обстановке политических дискуссий, которые царили в Германии 1842 года.
Время, проведенное в Дрездене, стало значительным для Бакунина. Он много размышлял о новом направлении своей жизни и пришел к выводу: чтобы освобождать других и призывать их к новой жизни, надо прежде всего освободиться и начать новую жизнь самому.
«Быть свободным и освобождать других — вот обязанность человека» — так сформулирует он эту мысль позднее, но уже теперь, порывая с областью чистого мышления и вступая в сферу практической борьбы, он прежде всего думает о внутренней свободе.