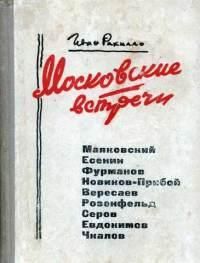«Благослови меня, мой друг, на благородный труд, — обращается он в другом письме к Панфилову. — Хочу писать «Пророка», в котором буду клеймить позором слепую, увязшую в пороках толпу… Отныне даю тебе клятву, буду следовать своему «Поэту». Пусть меня ждут унижения, презрения и ссылки, я буду твёрд, как будет мой пророк, выпивающий бокал, полный яда, за святую правду, с сознанием благородного подвига».
Недавно в государственных архивах обнаружена папка Московского охранного отделения, где приводятся сведения о тайном наблюдении и слежке шпиков за молодым корректором из типографии Сытина, под условной кличкой «Набор».
«Набор» — это была кличка Есенина.
Видали вы, как на солнечной стороне придорожной канавки неожиданно расцветает первый ландыш?
Этот ландыш почему-то напомнил мне Есенина. Как давно все это было! Прошло двадцать с лишним лет.
Сняв шляпу, я не спеша шёл по аллее Ваганьковского кладбища, вспоминая, как и все горожане, редко и случайно навещающие эти места, о многих, дорогих и близких, ушедших от нас людях. Недвижно стояли над тихими могилами кусты жимолости, бузины и бересклета.
Остановившись у раскрытых дверей церкви, откуда доносилось печальное пение хора, я собирался было уже повернуть вправо, как ко мне подлетел одетый в поношенный костюм человек с помятым актёрским лицом и пригласил хриплым голосом:
— Это не там. Пожалуйте за мной! — И, повернув от ворот налево, по аллее, посыпанной золотистым песком, привел меня к могиле с небольшим гранитным камнем, где у подножия лежали свежие цветы.
«Откуда он знает, к кому я пришел?» Но он действительно угадал. На памятнике в овале был выбит барельеф и под ним скромная подпись: «Сергей Есенин».
Я остановился у ограды, охваченный нахлынувшими воспоминаниями.
Ожили прошедшие годы, вспомнился белый особняк в глубине двора на Тверском бульваре и поэт, читающий в тесном кругу близких друзей свою последнюю поэму, привезённую с Кавказа.
И перед мысленным взором встал желтоволосый деревенский отрок.
Я снова здесь, в семье родной,
Мой край, задумчивый и нежный!
Кудрявый сумрак за горой
Рукою машет белоснежной.
Девушка-подросток, похожая на берёзку, высокая и тонкая в поясе, легко наклонилась и бережно положила к подножию памятника небольшой букетик цветов.
Я навестил сестру поэта, Шуру. Она показала новые книги брата, изданные в разных странах — в Китае, Японии, Англии, Франции, Румынии, Болгарии, Чехословакии, Польше, — стихи Есенина теперь читают всюду.
— В Братиславе есть набережная имени Есенина.
Разглядываю старые альбомы. Есенин в юности. Вот он с сёстрами. С матерью. Вот после первого возвращения из Москвы.
Москва. Берлин. Париж. Нью-Йорк.
Знакомая фотография: Сергей Александрович с сестрой Катей на Тверском бульваре. У него в руках детская гармошка. Снимок сделан после его возвращения из Америки.
Телефонный звонок. Шура берет трубку:
— Хорошо, мы ждём.
У палисадника останавливается машина. Высокий моряк входит в квартиру, он вежливо козыряет хозяйке и приглашает всех в машину.
— Может, выпьете чайку?
Моряк показывает на часы.
— В нашем распоряжении всего девять минут. Аврал.
Машина летит по шоссе: острый весенний ветерок скользит по лакированным крыльям, врываясь в полуоткрытое окно.
Искоса гляжу на моряка, но его загорелое лицо торжественно-непроницаемо.
Сквозь полутемный тоннель вылетаем на простор, облака объяты жарким пламенем заката.
Крутой разворот по полудуге аллеи, и машина останавливается у Химкинского речного вокзала. Моряк предупредительно открывает дверцу:
— Пожалуйте.
Проходим через гулкое, просторное здание речного вокзала и по широким ступеням спускаемся на деревянную, надраенную и выгоревшую на солнце белёсую пристань. Непередаваемо прекрасна в этот закатный час широкая водная гладь, до краёв налитая солнечным пурпуром. На всем просторе — ни души, ни паруса, лишь одинокие чайки, раскинув узкие розовые крылья, кружатся над опрокинутой в воду облачной бездной.
И вот, где-то вдалеке, у поворота возникает лёгкий, похожий на мечту, силуэт белоснежного корабля.
— Корабль построен венгерскими рабочими, — негромко докладывает моряк, — своим ходом он пришёл в Москву, обогнув Европу…
Отсалютовав сиреной о прибытии и взбудоражив винтом ало-жемчужную пену, корабль медленно разворачивается перед пристанью, и мы видим на нём озарённые вечерним солнцем золотые буквы, расположенные по белому полукружью палубы:
СЕРГЕЙ ЕСЕНИН.
Как прекрасен этот незабываемый миг!
И в памяти засветился другой вечер, когда Есенин, протянув вперед руки, читал у памятника Пушкину свои стихи, мечтая о народной славе. И вот слава пришла к нему, но, увы, опоздала…
Холодный ветреный март. Четыре часа ночи. С пустым ведром и топориком в руках прохожу через узкую арку тёмных ворот на улицу. Срочно нужно нарубить льда на компресс больному: Фурманову опять стало хуже. Нигде — ни во дворе, ни за сараями льда нет. Злой ветер метёт по переулку сухую пыль, насквозь пронизывая тело: я вышел в одной гимнастёрке и с открытой головой.
На улице ни души. У ворот тускло горит одинокий фонарик. Лёд блестит в канаве, возле тротуара. Положив ведро набок, я наискось, полого, стал подрубать топориком лёд и одновременным движением забрасывать его в ведро. И этот глухой, безлюдный переулок, холодный весенний ветер, острые брызги влетающего в пустое ведро льда и особенно запомнившийся какой-то безжизненный, унылый лязг металлической дужки ведра на всю жизнь остались в памяти…
Вместе с врачами писатели по очереди дежурят у постели больного Фурманова.
Сегодня мы дежурим с Безыменским. Жена Дмитрия Андреевича, Анна Никитична, не спавшая несколько суток, забылась в зыбком полусне. Фурманов лежит в соседней комнате, куда ведут несколько невысоких ступеней. Из комнаты доносится хриплое, прерывистое дыхание больного. Недавно Дмитрий Андреевич простудился и получил тяжёлое осложнение. У него сильный жар. Срочно понадобился лёд.
И вот я рублю его топориком и думаю о Фурманове.
Летом 1920 года на Кубани высадился белогвардейский десант генерала Улагая. Для уничтожения отборных офицерских частей, посланных из Крыма Врангелем, в тыл к белым был направлен красный десант. В этом десанте были и наши армавирцы.
Погрузившись на баржи и лодки, отряд по рекам Кубани и Протоке двинулся в сторону станицы Гривенской, где расположился штаб Улагая, от фронта в шестидесяти с лишним километрах.