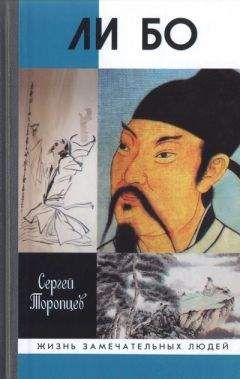Великое Просветление
Вместе с наставником Ли Бо по утопающей в лесной зелени тропе ушел на год к нему в Цзычжоу (современный город Саньтай), после чего вернулся в Куанские горы, где среди сосен, бамбуков и тунговых деревьев на склоне Дайтяньшань притаился монастырь Дамин (Великое Просветление), руины которого сохранились до наших дней.
Вариация на тему из сегодняшнего дня
Часть задней стенки, выложенная из кирпичей танского времени, настолько прочна, что я прогуливался по ней без страха, почтительной мыслью переносясь в восьмой век. Несколько ступеней лестницы у задней стены помнят легкий шаг юного поэта. А некоторые кирпичи и круглые обтесанные черные камни от основания колонн монастыря сегодняшние крестьяне приспособили рядом с Даминсы, обителью Вечности, для крохотного алтаря Желтому Владыке Хуан-ди, моля его о покровительстве. По соседству они строят сельский храм трех религий, где буддообразный Лао-цзы сидит в позе лотоса на черном буйволе, а Конфуций с черной бородкой интеллигента 1920-х годов сжимает в руках как опознавательный знак свое «Великое учение», не обращая внимания на поднесенную ему полуторалитровую бутылку пепси-колы.
Очертания горы напоминают корзину, откуда и возникло название Дакуан (Большая корзина), но монастырским интеллектуалам это показалось грубым, и они поставили омоним куан с иным значением — «исправляющий, преобразующий». В сунскую эпоху название гор вновь подкорректировали — в Даканшань (горы Великого процветания).
В спокойных Куаншаньских горах, чья тишина нарушалась лишь прилетающими из соседнего буддийского монастыря утренним и полдневным ударами пятисотлетнего гонга с надписями на санскрите или большой деревянной рыбины, висевшей под стропилами, да шелестом бамбуков в вечерних порывах ветра, было хорошо заниматься. Весной тунговые деревья покрывались желтыми цветами. Утро начинали с упражнений с мечом, что очень нравилось Ли Бо, и постепенно он начал проникаться «духом странствующего рыцаря». Днем изучал каноны, вечер посвящал литературным занятиям.
Вариация на тему
…Он сел у окна, и взгляд юноши, бродивший по ближнему склону, постепенно превращался во взгляд поэта, пронзивший Куанскую гору и улетевший далеко на восток. Опустились сумерки, выпали росы, загорелись огоньки светлячков. «Такие крохотные, — подумал юноша, — а неодолимые. И дождь их не погасит, и ветер не сдувает, наоборот, они светятся еще ярче. Может, взлети я в небо, стал бы звездочкой рядом с луной». Над вершиной Сяокуаншань (Малой Куанской горы) выдвинулся острый кончик светлого месяца. Поэт видит не глазами, а сердцем, и этот месяц не привязан для него к горе, а скорее к востоку — в той стороне, за горой, есть и крупные озера, и, самое главное, Восточное море, в котором мифология (для тогдашнего китайца — сугубая реальность) разместила пять «островов бессмертных», самым известным из которых была легендарная гора Пэнлай.
Именно там, над островом бессмертных, восходит «юный месяц» начинающего поэта: уже в первом своем стихотворении он поэтическим взором видит этот остров, где святые — его духовные собратья — с нетерпением ждут его (так он писал позже) после завершения земной миссии. Юный Ли Бо с первой же своей поэтической строки заглянул в вечность — «вечность» в положительном ключе, «вечность», в которой он сам существует в отличие от современного ее понимания как чего-то, что отделено от «Я», существует вне «Я», за пределами «Я».
Не названный прямо, но очевидный восток в первом стихотворении Ли Бо «Юный месяц» явно не случаен — в предпоследней строке он откровенно противопоставлен западу («Царский сад» в оригинале — «Западный сад», созданный древним императором для увеселений друзей-литераторов) как земной реалии, и этический контраст тут достаточно четок: святости небесного «востока» противостоит гибельность и разрушительность земного «запада».
Таким образом, уже в первом стихотворении намечена ведущая антитеза всего будущего творчества Ли Бо.
Но отчего его первый поэтический опыт начинается с вечернего пейзажа? Пусть даже это случайность, но запрограммированная. Возможны два объяснения. Во-первых, есть цивилизации, у которых начало дня приходится не на полночь, а на вечер; во-вторых, это стихотворение может быть лишь первой записью, но не внутренним началом, случившимся намного раньше, но не зафиксированным в привычной нам письменной форме. Кроме того, надо заметить, что через все поэтическое творчество Ли Бо проходит явное предпочтение ночи дню.
А воспринимал ли он вообще время как линейный физический процесс? Если для поэта в одном ряду стоят вечер с юным месяцем над далеким, не видным физическому взгляду, Восточным морем и скорбь по убитым в тот момент, когда в обозримом пространстве не шло никаких заметных войн, то соединены они не линейным временем, а явным отсутствием такового, замененного всеобщей чувствительностью к эмоциональной и этической логической связи.
У гениев в рамках их призвания случайностей не бывает — все они диктуются надличностной программой. И потому стихотворение, обозначенное как первое, несомненно должно быть программным и поставлено в символический ряд, пусть даже оно еще слабо, незрело и даже не всеми комментаторами вводится в основной корпус поэзии Ли Бо, отодвигаясь в сомнительные приложения:
Юный месяц встал над морем
В сумеречный час росы.
Когтем ветер тучи роет,
И блестит песок косы.
Ах, к чему тут струны эти,
Когда сын ушел в поход?
Царский сад покинем — ветер
К сыну пусть стихи несет.
Ретроспективно мы знаем роль образа луны в творчестве Ли Бо. Ночное светило прямо упоминается в 382 его стихотворениях (38 процентов всего сохранившегося наследия), а если добавить к этому еще и косвенные, метонимические упоминания, то наберется 499 — больше половины всего доставшегося нам поэтического богатства Ли Бо (Изучение-2002. С. 308). И это явно не только его частные поэтические пристрастия, не только конкретное воплощение его тяготения к небу, к небесному, но еще и семейная традиция — не случайно «луна» (юэ) уже присутствует в имени его младшей сестры Юэюань, которая и в предания вошла тоже в связи с луной — легенда поселила ее в лунном тереме среди облаков. Луна на протяжении всей жизни поэта была не только его другом, наперсницей, но и неким alter ego, самовоплощением — его называли земной «душой луны».
И вот свой поэтический ряд Ли Бо начинает с луны. Но не просто луны, а чу юэ — «начальной» (то есть молодой, юной; именно потому тут уместен перевод «месяц», тем более что в русском языке это слово мужского рода, и это особо подчеркивает, что поэт отождествляет самого себя с образом «юного месяца»). В первой строке оригинального текста стоит слово — да не испугает оно русского читателя — «жаба». Для перевода оно немыслимо, потому что семантическое наполнение его в двух языках совершенно противоположно: у нас это нечто отвратительно-зловещее; у китайцев — положительное, часто усиленное определением «яшмовая» (то есть прекрасная) и мифологической аурой, в которой «яшмовая жаба» обычно выступает однозначно как метоним луны, хотя в определенных ситуациях (затмение) — как ее антагонист (отгрызает кусочек за кусочком).