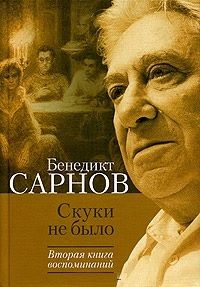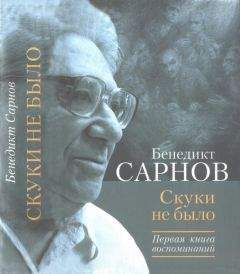Самым печальным для меня было то, что, высказывая свое недовольство происходящим, эти бывшие мои единомышленники взывали к власти.
Кто-то, помню, передал мне возмущенную реплику Александра Михайловича Борщаговского. Прочитав мою статью, он якобы с негодованием воскликнул:
— Ишь, до чего договорился! Читатель, видите ли, сам будет теперь решать, что хорошо, а что плохо!
Ввязываться в спор и с этими моими недавними единомышленниками, которые — кто открыто, а кто втайне — разделял возмущение Борщаговского, я не стал.
В конце концов, Бог с ним, и с Борщаговским, который предпочитает, чтобы симпатиями и антипатиями читателя, как и прежде, заведовали какие-то — не кем-нибудь, а начальством — назначенные поводыри.
Бог с ними и с теми моими друзьями-приятелями, которые сами охотно взяли на себя роль этих поводырей, как это сделал тогда, например, милейший Слава Кодратьев.
Разумеется, — объяснял он в беседе с корреспондентом «Московских новостей» (22 октября 1989 года), — необходимо знакомить читателя с тем, чего он был лишен. Но, думаю, нужен и отбор. Вряд ли напечатанная в «Юности» «Золотая наша железка» принесла новые лавры Василию Аксенову. Кажется мне, что и публикация «Иванькиады» Владимира Войновича в «Дружбе народов» мало что добавит автору «Чонкина»: история борьбы за лишнюю жилплощадь, когда люди еще живут в бараках и коммуналках, не внушит читателю особых симпатий к автору.
Журналы едва ли не соревнуются, кто скорее опубликует все написанное в эмиграции. Сейчас, когда идет возвращение великого писателя и гражданина Александра Солженицына, печатается роман Войновича «Москва 2042». Разве примет читатель сатиру на человека с такой трагической судьбой? Уверен, что нет.
Только-только прилетели к нам из-за рубежа первые ласточки, внушающие надежду на воссоединение искусственно разделенной железным занавесом на два враждебных лагеря единой русской литературы, как сразу же мы услышали эти — давно и хорошо знакомые унылые цензорские речи, выражающие заботу о писателе, которому опубликование его книги не принесет новых лавров, и заботу о читателе, которому неразборчивые издатели подсовывают недоброкачественный товар.
И — главное — кто проявляет эту обрыдлую фальшивую заботу о писателе, которого в его же собственных интересах не надо печатать? И о читателе, которому не следует давать в руки книгу, которая может сбить его с правильного пути? Ведь не Проскурин, только что публично назвавший интерес издателей к эмигрантской литературе некрофилией, и не какой-нибудь там Генрих Боровик, а — Вячеслав Кондратьев, автор «Сашки»! Слава Кондратьев, которого я привык числить среди полных своих единомышленников!
Еще сильнее ушибло меня совсем уже как снег на голову свалившееся интервью Бориса Чичибабина.
Но об этом надо — чуть подробнее.
* * *
Я совсем было уже собрался написать, что стихи Чичибабина узнал из Самиздата. Но тут же вспомнил, что в Самиздате они если и ходили, то не больно широко. А первое его стихотворение я услыхал от Слуцкого.
Услышал — и сразу запомнил: и имя поэта, и его стихи. А один маленький стишок надолго остался для меня чем-то вроде его, Чичибабина, визитной карточки, фирменного знака. Как, скажем, «Гренада» для Светлова.
Стишок был такой:
Кончусь, останусь жив ли, —
чем зарастет провал?
В Игоревом Путивле
выгорела трава.
Школьные коридоры —
тихие, не звенят…
Красные помидоры
кушайте без меня.
Как я дожил до прозы
с горькою головой?
Вечером на допросы
водит меня конвой.
Лестницы, коридоры,
Хитрые письмена…
Красные помидоры
кушайте без меня.
Все было предельно ясно в этих прозрачных, простых, до примитива простых стихах. Мальчика взяли прямо со школьной скамьи, и школьные коридоры сменились другими, по которым его теперь водят на допрос. Но какая-то неизъяснимая прелесть таилась в этих дважды повторенных грустных строчках про красные помидоры, которые теперь кому-то (а вернее, всем, оставшимся по эту сторону тюремных стен) предстоит «кушать» без него.
Борис прочел это стихотворение неизвестного мне своего тезки с какой-то особенной, совсем ему не свойственной нежностью. А когда я сказал ему про «красные помидоры», — что именно они делают это незатейливое стихотворение поэзией, — он улыбнулся — тоже какой-то особенно нежной улыбкой, какую мне никогда прежде не случалось видеть на его лице, — и сказал:
— Это очень по-харьковски. Для меня, харьковчанина, это «кушайте» звучит совсем не так, как для вас, москвича.
Второй раз я услышал про Чичибабина от Межирова. И это был уже совсем другой Чичибабин.
Межиров прочел мне два совсем коротеньких чичибабинских стихотворения. Даже не стихотворения, а — отрывка, огрызка.
Один «огрызок» был такой:
Я грех свячу тоской.
Мне жалко негодяев,
Как Алексей Толстой
И Валентин Катаев.
А второй, столь же нелицеприятный, был — и это было уж совсем удивительно — про Есенина:
Ты, заменивший шар земной
родной халупой, —
не то беда, что ты хмельной,
А то — что глупый!
А кончался он так:
Ты нам во славу и позор —
Сергей Есенин!
Прочел Межиров эти строки замечательно! (Он читал, наверно, еще и какие-то другие, но я запомнил только эти.) Слово «глупый» он прочел так: «глупой». Так диктовала рифма, но не только в рифме, в чем-то еще было для него тут дело. Читая, он чуть прищуривал хитровато свои выпуклые глаза. А в ответ на мою реакцию произнес только одно слово. Даже не слово, а междометие: «О!» И это значило, что нам суждена еще великая переоценка всех наших привычных ценностей, что где-то там, в глубокой провинции зреют силы, которые вот-вот выйдут на арену истории и сметут с нее всех наших привычных кумиров: не только очевидного негодяя Катаева, но и Алексея Толстого, и Есенина, и может быть, даже не только их, а кое-кого еще, покрупнее и позначительней.
А потом появился у меня дома и сам Борис Чичибабин со своей женой — красавицей Лилей. Ему предстояло выступить в ЦДЛ — в большом зале, — и он просил меня, чтобы я его представлял, произнес перед его выступлением что-то вроде вступительного слова.
Почему он обратился с этой просьбой именно ко мне — не могу сказать, не знаю. Но я откликнулся с готовностью и выполнил свою роль даже с излишним усердием. Говорил много, долго, едва ли не забыв, что люди пришли в этот зал слушать не меня, а его.
После этого Чичибабины — Борис и Лиля, — приезжая в Москву, всякий раз заходили к нам на правах уже добрых знакомых. Ну и конечно, когда наша так называемая перестройка вошла в свою полную силу, и Советский Союз распался, и канула в прошлое ненавистная нам цензура, и у Бориса стали выходить книги — одна за другой (каждую из них он мне дарил), я уже не сомневался, что он рад всему случившемуся — так же, как я. Наверно, даже больше, чем я: я все-таки ни Алексея Толстого, ни даже Катаева впрямую негодяями назвать бы не отважился, и Есенина сбрасывать с парохода современности тем более бы не стал.
И вдруг попадается мне на глаза интервью Бориса, с грубой прямотой озаглавленное: «Власть денег хуже, чем тоталитаризм». Ни больше ни меньше.
Я не то чтобы не поверил своим глазам, но — как старый газетчик — подумал, что заглавие это из каких-то там своих соображений придумали в редакции: то ли для сенсационности, то ли потому, что такое заглавие было по сердцу людям, делавшим эту газету.
Но в тексте интервью говорилось то же, что в заглавии. И даже с большей убедительностью. Во всяком случае, с большей искренностью:
Коммерциализация — это американский, а не русский способ жизни… Нельзя бросать культуру под ноги рынку. Как это ни парадоксально звучит, духовность в застое цвела пышнее. В 70-е годы, не публикуясь, я знал своего читателя, я видел лица, ловившие каждое мое слово. Сейчас я не знаю, кто меня читает и читают ли вообще. Пусть нас не печатали, но был самиздат, и люди тянулись. Да, существовали они и мы, но можно было зайти в книжный магазин и купить С. Липкина, Д. Самойлова, а сейчас, вы видели, что лежит на прилавках? Макулатура в красивых обложках… То есть власть денег оказалась сильнее тоталитарной власти.
Встретившись с Борисом (на этот раз встреча было случайной и по необходимости короткой), я выразил ему свое изумление. Он ответил, что тема эта требует долгого разговора и — желательно — за бутылкой.