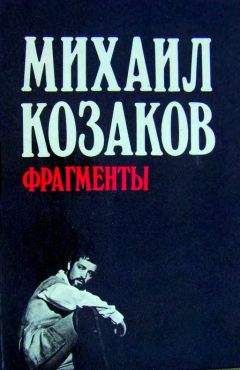— Йя, йя, сэр! — продолжал я. — Май френдз энд ай ливинг ин Москоу. Ай эм актор, энд май френдз ту. Ю андерстенд ми?
Он сказал, что «андерстенд», но добавил:
— Ит’с тру? (Это правда?) Риали?
— Ит’с тру, тру, ов корс, риали!
И в подтверждение сказанного протянул ему непочатую пачку сигарет «Столичные», а также извлеченное из кармана моей куртки второе деревянное пасхальное яйцо. Увидев знаменитую русскую хохлому и надпись на пачке сигарет непонятным шрифтом, он в третий раз развернулся к нам будкой с радостным и одновременно удивленным восклицанием: «Оу!» Через некоторое время представитель 6-го американского флота НАТО угощал нас джином, виски, мы на халяву курили штатские сигареты, оркестр заиграл «Очи черные» в нашу честь, я пел эти «Очи черные» перед микрофоном, Алла подключилась, и мы на маленькой сцене плясали нечто среднее между цыганочкой и русской плясовой.
Все танцы в кабаке «Бродвей-бар» прекратились. И все матросы, гарсоны и проститутки уставились на нас. Еще бы! Мы были первыми и наверняка последними советскими людьми, гулявшими напропалую в этом портовом неаполитанском «Бродвей-баре». На прощание я станцевал танго с черненькой проституткой нашего нового американского друга и поцеловал ей руку в знак благодарности, а он, протоптавшись в обнимку с Аллой в том же танце, во время которого держал ее обеими ручищами за филейную часть, покровительственно потрепал Аллу по щеке. Не мог же он предположить, что девочка в свитере, говорящая почему-то тоже по-русски, не портовая шлюха, а жена главного режиссера московского театра.
Куда завели меня воспоминания? В Неаполь 60-х из Тель-Авива 90-х. Пора возвращаться назад.
Для чего наш брат актер пишет мемуарные книги? Не только мемуарные — многие стали и впрямь писателями из актеров — Шукшин, к примеру. О поэтах уже не говорю, один Высоцкий чего стоит. Да ведь и Саша Галич начинал как актер, даже Вика Некрасов актерствовал. А драматурги? Ну, скажете вы, это традиция: Шекспир, Мольер — из вашего цеха. Правильно. Но мемуары зачем? Ну, Станиславского — понятно, «Моя жизнь в искусстве» — часть его учения. У Михаила Чехова тоже так дело обстоит. У великого чтеца Закушняка — учение об искусстве слова. Ну а вот я, например, зачем? Качалов и Москвин книг не писали, они играли, а я?
Я отвечу — не за всех, за себя: если что-либо пережитое не сыграно, не поставлено, не охвачено хотя бы на страницах дневника, оно как бы и не существовало вовсе. А так как актер и даже режиссер — профессия зависимая, зависящая от пьесы, сценария, денег на фильм или спектакль, то некоторым из нас ничего не остается, как писать: кто, что и как умеет. Доиграть несыгранное, поставить ненаписанное, пропеть, прохрипеть, проорать, прошептать, продумать, переболеть, освободиться от боли. И каждый в своей книге увидит себя, как в зеркале. Сам не увидит, другие помогут разглядеть. Ты ведь в книге не актер, что на режиссера свой провал свалит, на плохую пьесу сошлется, на бездаря-партнера, на дуру-публику. В книге ты весь на ладони. Актер, даже самый что ни на есть талантливый, он все-таки чужие слова говорит. Про череп шута Йорика, про шапку Мономаха, про все на свете. И режиссер ему музыкой помогает, светом, монтажом и мизансценой.
Актер может быть не образован, не умен, не культурен и даже плохо воспитан. Но на сцене или на экране он бывает богом. Актер думает спинным мозгом. Как это сказала Раневская: «Талант как прыщ, он может вскочить на любом лице». Что за странная профессия, право? Актерами рождаются — папа с мамой произведут на свет дитятю, у которого неизвестно отчего с возрастом будут именно такие черты лица, глаза, голос, мужественность, сексуальность и обаяние, что все это в сочетании с текстом роли, поступками и чувствами изображаемого им персонажа даст невиданный эффект. Он в жизни может быть дурак дураком, но автор написал ему монолог о дураках, и — глядишь, на сцене умница и иронист. Он прочитал в жизни две книжки, одна из которых — его сберегательная, а на сцене — профессор, рассуждающий о природе подсознательного. В жизни тряпка и барахло, на сцене — король Лир.
Даже в профессии гораздо более интеллектуальной, в режиссуре, подобный разрыв не слишком очевиден. Режиссеру фильма или спектакля достаточно почувствовать пластический образ спектакля или фильма, его графику, темпо-ритм, пластический строй, и, пренебрегая знаниями времени и места, мировым опытом, наплевав даже на культурные и религиозные ценности страны, где происходит действие пьесы или сценария, — он поставит спектакль или снимет ленту, которую назовут гениальной и даже объяснят, почему она таковой является. Режиссер ведь не придумывает сюжет, не пишет текст — за него это уже сделал автор.
Еще и поэтому у режиссеров такая тяга к классикам — писали лучше. Ум, автор, его талант проверен временем. Драматургу, если он дурак, темен и необразован, скрыть сие обстоятельство много труднее, чем режиссеру. Автор, как он это ни маскируй, тут или там, репликой или шуткой, обнаружит свои тайные пороки и свойства своего характера. Даже очень талантливый автор. Даже если у него замечательное чувство юмора и публика подыхает со смеху — настанет момент, и чуткий зритель или читатель пресытится и этим. От писателя-лирика, высокого поэта читатель подсознательно ждет разрядки в иронии или шутке, от смехача — глубины и лирического монолога. Классики это дело секли не раз, — а кто не сек, пылится на полках библиотек.
Гоголь в поэме «Мертвые души» завидовал поэту, что пишет лишь о высоком, и лукаво жаловался на тернистый путь сатирика, копающегося в низких людских пороках. Сегодня как раз можно позавидовать талантливому сатирику: высокий строй мысли не в моде. Чистому лирику много труднее пробиться к читателю и зрителю. То же и в актерских книгах: хочешь широкого читательского успеха — шути на всю железку, бай байки, трави баланду; если ты к тому же популярный актер — побольше своих фотографий со знаменитыми друзьями; очень хорошо, если кто-нибудь из них подарил тебе фото с надписью и нарек тебя «блистательно талантливым», — не брезгуй, помести в книгу. Читатель это уважает. Больше имен и как можно больше сплетен и баек.
Помнишь заповеди: не укради, не убий, не прелюбодействуй, не возжелай жены ближнего своего… Вспомнил? Так вот, поступай с точностью до наоборот. Укради мысль, убей хамской эпиграммой врага или друга, что одно и то же, прелюбодействуй с чужой женой хотя бы на бумаге или напиши, что прелюбодействовал, — кто проверит? Одну заповедь — новую! — выучи: не утоми! Назови свою книгу: «Похождения дрянного мальчишки» или лучше так — помнишь? — «Я — Пеле», «Я — Эдичка», «Я — Шурик». А ты еще короче: «Я — говно». Но главная заповедь — «Не утоми», читатель сегодня и так утомлен, у него и без твоей писанины забот хватает, он не для того свой последний рубль, шекель, доллар, грош отдал тебе, мерзавцу, чтобы ему скулы воротило! Ты понял? Не утоми! Мыслью — не утоми! И тираж тебе обеспечен.