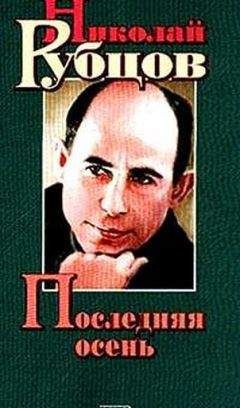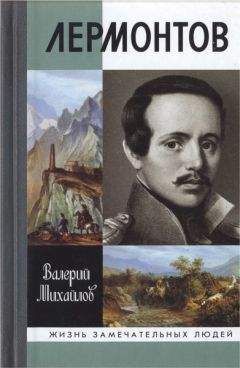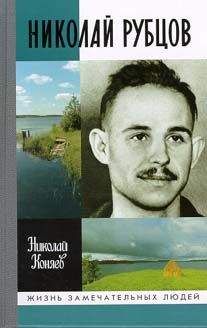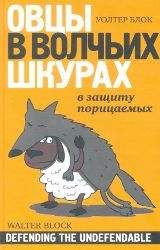Неясно, как был сформулирован этот приказ, но Рубцов должен был «оплотить» по счету. И он заплатил по нему…
20
…Когда читаешь или слушаешь воспоминания о Рубцове, охватывает странное чувство. Рубцова видели в коридорах общежития, встречали на городских улицах, запомнили то в очереди у пивного ларька, то в редакции какого-нибудь журнала. Знавшие Рубцова тщательно припоминают разговоры, добросовестно описывают прокуренные комнаты общежития Литературного института, всплывают даже самые незначительные детали, но все эти подробности облетают, как пожелтевшая листва, и за прозрачными ветвями деревьев словно и нет городского асфальта — только сырое осеннее поле. Над полем сгущаются сумерки, и зябко, холодно вокруг, и только вдалеке, у кромки чернеющего леса, робко помаргивают деревенские огоньки. Огоньки той деревни, в которой он жил…
Летели, летели недели,
Да что там недели — года…
Не раз в ЦДЛе сидели,
А вот у реки никогда,
— с горькой иронией напишет в стихотворении, посвященном Рубцову, Николай Старшинов. И Борис Романов тоже вспомнит, что от:
«…знакомства с Николаем Рубцовым у меня сохранилось… очень конкретное впечатление „на манер“ того, которое бывает, когда в море, в сумерках или ночью, внезапно проходит возле тебя огромное, с немногими огнями судно».
Но тогда откуда же этот сквозящий в строках городских описаний пейзаж сырого осеннего поля, пейзаж рубцовской деревни? И какой же силой любви к своей родной земле должен обладать поэт, чтобы и люди, никогда не видевшие ее, никогда не бывавшие на ней, увидели ее и запомнили, как свою? И не потому ли с таким вниманием вчитываешься в коротенькие письма Рубцова из деревни, не потому ли ловишь каждое слово человека, видевшего его там?
Почти все письма Рубцова и воспоминания, касающиеся жизни Рубцова в деревне, относятся к 1964 году, может быть, самому страшному и трудному году в жизни поэта…
«Я снова в своей Николе… — пишет Николай Рубцов Сергею Багрову 27 июля 1964 года. — Живу я здесь уже месяц. Погода, на мой взгляд, великолепная. Ягод в лесу полно — так что я не унываю…»
Слово «унываю», хотя и снабжено отрицанием «не», как-то выпадает из контекста. Дальше Рубцов пишет о своих успехах, о том, как прекрасно движутся дела с публикацией стихов:
«Ты не видел моих стихов в „Молодой гвардии“ и „Юности“ — 6-е номера? Я недоволен подборкой в „Юности“, да и той, в „Молодой гвардии“. Но ничего. Вот в 8-м номере „Октября“ (в августе) выйдет, по-моему, неплохая подборка моих стихов. Посмотри. Может быть, в 9-м номере. Но будут…»
Вроде бы и нет причин для уныния… И Сергей Багров, навестивший Рубцова в Николе, тоже рисует портрет бодрого, «неунывающего» поэта:
«А было то утро влажное, голубое, словно вымытое в реке и подсыхающее на припеке. Пахло накошенным клевером и гвоздикой. По крайнему к Толшме посаду я подошел к плоскокрышей (разрядка здесь и дальше наша. — Н. К.) избе с крыльцом, заросшим крапивой и лопухами…
Войдя через сени в полую дверь, слегка удивился… На полу валялись клочья бумаг, салфетка с комода, будильник, железные клещи и опрокинутый набок горшок с домашним цветком. На столе — какие-то распашонки, тут же чугун с вареной картошкой, бутылочка молока и детский ботинок. Из горенки послышался младенческий крик, а вслед за ним с крохотной девочкой на руках выплыл и сам Рубцов. Был он в шелковой белой рубахе, босиком. Перекинутый через лоб жидкий стебель волос и мигающие глаза выражали досаду на случай, заставивший его сделаться нянькой.
— Это Лена моя! — улыбнулся Рубцов и посадил притихшую дочку на толстую книгу. — Гета с матерью ушли сенокосить, а мы пробуем прибираться. Вернее, пробует Лена. И я ей все разрешаю!..
— Но так и хорошее можно что-нибудь изломать?
— А вон, — показал Николай на ручные часы, вернее, на то, что когда-то было часами, а теперь валялось в углу с разбитым стеклом и покореженным циферблатом. — Еще утром ходили. Но я ей дал поиграть…
— Теперь без часов вот остался?!
— А что мне часы! Без них даже лучше. Спешить никуда не надо. Живи, как подскажет тебе настроение».
Сергей Багров не останавливает наше внимание ни на бедности окружающей Рубцова жизни; ни на, должно быть, непростых взаимоотношениях — с Генриеттой Михайловной Рубцов так и не зарегистрировался — между обитателями этой «плоскокрышей избы» (избушки, как впоследствии будет называть ее сам поэт). Едва ли это сделано умышленно. Бодрость, энергия Рубцова заражали гостя, вот и осталась в памяти только «праздничная улыбка, а в карих глазах что-то ласково-легкое, игравшее радостью и приветом».
Летом 1964 года Рубцов чувствовал себя на взлете. За первыми крупными подборками стихов в центральных журналах виделось близкое признание… А исключение из института казалось несущественной, формальной ошибкой, которую легко исправить.
Во всяком случае, ни жене, ни Сергею Багрову об отчислении из института Рубцов не рассказывал. И это не просто бездумная самоуверенность или болезненная скрытность — те качества характера, которые отмечали в Рубцове почти все знавшие его. В этом видится другое, нечто большее…
Рубцов был человеком с обостренным чувством Пути. Когда листаешь сборники его стихов, все время мелькают слова «путь», «дорога», служащие не столько для обозначения каких-то определенных понятий реального мира, сколько для фиксации особого состояния души поэта.
Даже в шутливых стихах движение в пространстве зачастую несет особый нравственный смысл:
Я уплыву на пароходе,
Потом поеду на подводе,
Потом еще на чем-то вроде,
Потом верхом, потом пешком
Пойду по волоку с мешком
И буду жить в своем народе…
Но вместе с этим единственным и истинным Путем были и пути в обратную сторону, пути, о которых никогда не писал Рубцов с иронией, потому что они всегда осознавались им как трагедия.
Еще в 1963 году была написана Рубцовым «Прощальная песня»:
Я уеду из этой деревни…
Будет льдом покрываться река,
Будут ночью поскрипывать двери,
Будет грязь на дворе глубока.
Не принято отождествлять героя литературного произведения с его автором, но лирического героя «Прощальной песни» и поэта Рубцова, кажется, не разделяет ничто. И не потому ли так пронзительно, так неподдельно искренне звучат строки этого шедевра русской лирики: