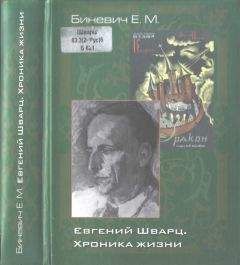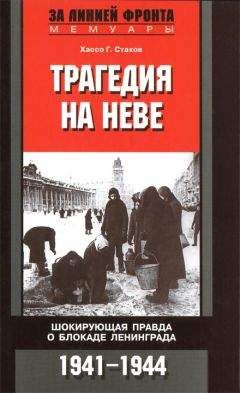1 февраля
Здесь тоже слишком уж оживленная, опьяневшая оттого, что хлебнула чужого горя, высокая молодая женщина в короткой, чуть ниже талии кофточке, или верхней одежде для улицы, имеющей другое название, увидев меня и узнав — я только что раскланивался со сцены, — метнулась мне навстречу к каким‑то своим знакомым, шедшим возле, сказала умышленно громко, не для них, а для меня: «Первый акт — сказка, второй — совсем не сказка, а третий — неизвестно что».
Вся манера говорить была у нее окололитературная или театральная. Это была либо жена режиссера, либо начинающий режиссер, либо театральный критик из кругов, отрицающих Театр комедии, — во всяком случае, она ликовала. Неуспех пьесы был до того несомненен, что в последних известиях по радио отсутствовало обязательное во время подобных декад сообщение, что, мол, состоялась премьера такого‑то ленинградского спектакля, который был тепло принят зрителями. Из театра пошли мы к Образцовым. Он ни за что не хотел верить нам. А тут позвонили еще друзья его, Миллеры, сообщившие, что им спектакль очень понравился и имел большой успех. Но я‑то знал, как обстояло дело. Вечером шел я на спектакль, как на казнь. К моему ужасу, пришел Корней Иванович Чуковский, Квитко. Появился Каплер, спокойный и улыбающийся. Оня Прут[343]. Даже в правительственной ложе появились какие‑то очень молодые люди, скрывающиеся скромно в самой ее глубине. И вот совершилось чудо. Спектакль прошел не то что с большим — с исключительным успехом. Тут я любовался прелестным Львом Моисеевичем Квитко. Он раскраснелся, полный, с седеющей шапкой волос, будто ребенок на именинах, в гостях. Он радовался успеху, легкий, радостный, — воистину поэт. Радовался и Корней Иванович, Я на всякий случай предупредил его, что второй акт — будто из другой пьесы, повторил то, чем попрекали меня вчера. Но он не согласился: «Что вы, — второй акт прямое продолжение первого». На этот раз вызывали дружно, никто не уходил, когда мы раскланивались, зал стоял и глядел на сцену. И занавес давали несколько раз. Вызывали автора.
2 февраля
Вызывали режиссера. В последний раз вышли мы на просцениум перед занавесом. Это был успех настоящий, без всякой натяжки. И я без страха шел через полукруглый коридор Малого театра. Подошел Каплер, похвалил по — настоящему, без всякой натяжки и спросил: «Эту пьесу вы и писали в «Синопе“?» И когда я подтвердил, задумчиво покачал головой. На следующий день состоялся утренник — и этот, третий, спектакль имел еще больший успех. Мы перед началом задержались у входа в театр. Солнце светило совсем по- летнему. Подбежала Леля Григорьева, дочка Наташи Соловьевой, юная, веселая, на негритянский лад низколобая и кучерявая, несмотря на свою русскую без примеси кровь. И я обрадовался. Словно представитель майкопских времен моей жизни пришел взглянуть на сегодняшний мой день. Она попросила билет, и я устроил ей место в партере. Пришла она с подругами. У тех места были в ложе второго яруса. Но Леля по — товарищески пустила одну из них на второй акт в партер, и я увидел ее сияющее полудетское лицо в ложе. Ей спектакль нравился с той силой, как бывает в студенческие годы. Пришел на спектакль и Шкловский, под руку с Ваней Халтуриным[344]. Курносое, прямо на тебя смотрящее, большое лицо Виктора Борисовича еще не оскалилось, но вот — вот готово было показать зубы на бульдожий лад. Я знал, что он не любит пьес и будет браниться. Вероятно, и бранился уже заранее по дороге, если судить по виноватой улыбке, с которой поздоровался со мной Ваня Халтурин. Итак, третий спектакль прошел с наибольшим успехом, но критики и начальство посетили первый! Тем не менее появились статьи доброжелательные, а Образцов в «Правде» похвалил меня в обзорной статье. Тем не менее отношения с Акимовым омрачились. Он слышал, как высказывал я недовольство тем, что выпустил он Гарина без достаточного количества репетиций. И в самом деле — Лецкий играл грубее, но лучше. У него все было ясно. Злодей и есть злодей. Все оказывались на местах.
3 февраля
В театре все всем известно. И когда после спектакля вышли мы на неожиданно светлую, залитую солнцем площадь (в театре всегда представляется, что за стенами — ночь), меня окликнула Хеся Локшина, жена Эраста, тощенькая — одна душа осталась, решительная, подозрительная. Осуждающе глядя на меня своими страдальческими очами, она спросила: «Что же, по — вашему, Лецкий играет лучше Эраста?» И я ответил: «Не лучше, а понятнее». Я хотел разъяснить ей, что под этим понимаю, но заметил, что она дрожит мелкой дрожью, смутился и замял разговор. Декада окончилась.
21 февраля
В перепутанной моей душе одним из яснейших и несомненных чувств была моя любовь к Наташе. Она училась в IV классе, ей предстояли первые экзамены, и никак не давалась ей арифметика. То есть имела она четверку, но я‑то знал, что самый вид арифметической задачи повергал ее в растерянность, как меня в те же годы. Я не верил, что это решается. Не знал, как начинать думать. Впервые в сорок пять лет понял я арифметику и научился решать задачи лучше даже, чем первый ученик Наташиного класса, тоненький мальчик в очках.
22 февраля
Любопытно, что если я приезжал читать в детские библиотеки или школы, меня встречали почтительно, как всякое новое и непривычное явление. Когда же явился я с той же целью в Наташину школу, раздался вопль: «Наташин отец пришел!» Исчезла вся таинственность явления «писатель». Тем не менее отношения с Наташиными одноклассниками были хорошие, и мы часто вместе готовились к контрольной по арифметике. В те годы у всех ребят с особенной силой вспыхнула страсть к собиранию фантиков. Причины тому были исторические — присоединение к нам двух новых советских республик. Из Эстонии, а главным образом из Латвии, шли конфеты в бумажках, непривычных и ярких. Ребята завели даже альбомы, в которые наклеивали эти фантики. На углу Литейной и Пестеля был большой выбор подобных конфет. Гуляя с Наташей, я заходил обычно в эту кондитерскую. Боясь развить в Наташе скупость, я покупал одинаковое количество конфет и ей, и подругам, если они шли с нами. Ребята быстро учли это обстоятельство. И к кондитерской мы подходили хорошо если впятером или вшестером. Соседские девочки бежали из скверика возле или со двора и шагали рядом, взявшись под руки, мешая движению. Я жил слишком уж уходя в то, что считается житейскими мелочами. Я никогда не был настоящим работником, живущим для работы. Мне приходилось, словно репейники, выбирать из души набившиеся туда заботы и беспокойства, делать усилие, чтобы сесть за письменный стол со свободной душой. Но, правда, жил я не сонно. Сквозь все, будто дневной свет сквозь занавески, неудержимо пробивалось чувство радости. Поездка на трамвае к Наташе, вечер, дом, утро — все было окрашено резко.